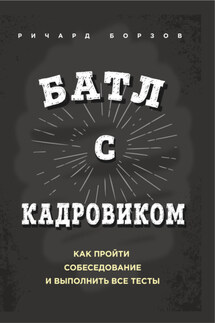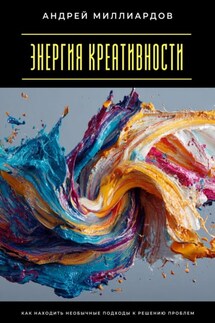Реальность текста - страница 13
Высказываемое текстом высказывается из этого имманентного тексту «Я» и адресуется трансцендентной фигуре Другого, которая именно в силу этой своей внеположенности в рамках такого адресования сообщает тексту его энергетический потенциал. Это и является простейшей схемой динамики текста.
Вернемся к Автору. Божественной роли Творца, творящего по произволу, от избытка и «ex nihil», мы его лишили, сведя его в этом плане до скриптора. Но вне этой функции он является таким же полноправным членом общества, как и любой из его читателей. Вышеописанная «смерть», представляющая собой распадение Автора-Бога на скриптора, записывающего текст и Рассказчика, чей голос звучит как голос текста, означает лишь отмену всех возможных привилегий во взаимодействии с текстом. Умерши, как Автор, в своей «теологически значимой» функции, автор, как личность>13, имеет с текстом свои отношения: «на общих правах», но, тем не менее, совершенно уникальные, как, впрочем, совершенно уникальные отношения с текстом имеет и любой из читателей.
Тот факт, что даже в случае употребления в тексте местоимения «я», автор никогда не может полностью отождествить себя с этим «я», тот факт, что уже сама процедура письма обособляет и разделяет «Я», существующее в тексте и авторскую личность, собственно, и сводит роль автора в возникновении текста до скрипторской функции. Когда Барт говорит о том, что текст не замышляется, не вынашивается уже автором, это кажется парадоксальным, но, тем не менее, это так. Некий авторский замысел, разумеется, как и раньше, предшествует тексту, однако на стадии его реализации сюда вмешивается нечто такое, что сводит этот замысел на роль повода, диктуя что-то свое, что и станет источником смыслообразующей идеальности текста.
Таким образом, автор в неменьшей степени, чем читатель (или читатель в неменьшей степени, чем автор) оказывается соучаствующим свидетелем тех коллизий, которые разворачиваются в тексте. В каком-то смысле это можно назвать «диалогом», но на деле это – общее предстояние, совместная обращенность к абсолютно Другому, чему-то, находящемуся там, куда обращается текст. Возможность оказаться в такой соотнесенности с трансцендентным, открываемая текстом, и составляет существенный его (текста) смысл. V
Принципиальная идентичность (не отменяющая собой совершенной уникальности) отношения к тексту как автора, так и любого из читателей, обусловлена еще и тем, что текст должен быть прочитан, озвучен хотя бы во внутренней речи, а это неизбежно ставит всякого соприкасающегося с ним в положение исполнителя, то есть Рассказчика, то есть внутрь текста. Возможность этого обеспечивается тем, что место Рассказчика пусто, – по всей видимости, после смерти Автора. Иначе говоря, речь текста существует реально и содержательно, она даже носит весьма напряженный характер, и исток ее дан не менее реально, но – в качестве полости, ниши, куда поставляется любой человек, имеющий дело с текстом. Можно, конечно, не ограничиваясь этой функцией Рассказчика, воспринимать текст еще и отстраненно, но невозможно отказать тексту, не разрушив его.
Работа «Смерть Автора» с излишней, может быть, категоричностью и радикализмом декларирует именно это состояние разрыва и нетождественности голоса текста и авторской позицией при его написании, имеющее свое практическое следствие в пустоте места Рассказчика. То, что автор, имея определенные идеи и намерения, создает произведение, всегда выходящее за рамки этих предварительных установок, уже успело стать банальностью и, как всякая банальность, не располагает к продумыванию. Мы, однако, попробуем помыслить в этом направлении, несмотря на то, что банальностью давно уже стало и объяснение этого факта: вспомним, что у Данте (наподобие которого Рассказчик водит нас по Раю и Аду) был проводник по царству мертвых – Вергилий. Каждый автор также ведом своими литературными предшественниками и их классическим наследием, ведом литературной обстановкой современности и модой, – то есть всем тем, что называется традицией. (Мода – есть актуальность традиции, если традицию понимать как акт). Более того, автора ведет язык, предшествующий этой традиции не столько исторически, сколько сущностно, и полагающий основание не только литературы, но и вообще всякого человеческого способа проживания бытия. Тот же самый язык ведет и читателя в понимании и истолковании текста.