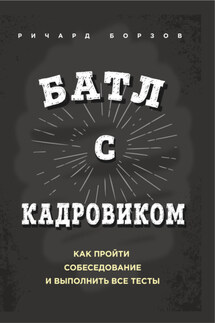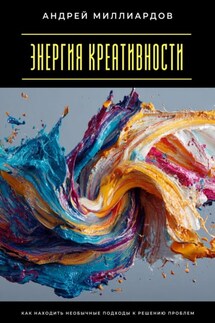Реальность текста - страница 12
Следует также проблематизировать источник высказываемого текстом. Точно так же, как раздвоен текст в своей телеологии на фигуру Другого, к которой обращено словесное творчество, и читателя, захваченного чтением этих «чужих писем», имеется раздвоение присутствует и в истоке этой речи текста. Автор, как реальная личность, всегда дублирует себя в тексте фигурой Рассказчика.
Переходя к разговору об авторе, мы затрагиваем очень непростую тему. Прежде всего, невозможно игнорировать «смерть Автора», которую возвестил Р. Барт, и которая успела уже стать достаточно общим местом. По словам Барта, Автор больше не предшествует тексту, Он не вынашивает его и не творит, он его лишь записывает, являясь только лишь скриптором, а текст, в свою очередь, не выражает уже авторских мыслей и душевных движений, да и вообще не говорит ни о чем, кроме самого себя, являясь автономным образованием не только после написания, но и в процессе его. Да, когда-то Автор творил текст, вещал и рассказывал его нам, поверяя свои мысли, и текст принадлежал ему; но Автор (в таком его понимании – как Творца) умер, уменьшившись, изничтожившись до механики записывания, оставив нас наедине с текстом. И слава Богу, – считает Барт. Благодаря этому «ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников»>11.
Однако фразы, промелькнувшие только что (и подобные им): «возвестил Барт», «по словам Барта», «считает Барт», – позволяют заподозрить, что слухи о буквально понятой смерти Автора, по крайней мере, несколько преувеличены. Буквальное понимание вообще чаще всего не делает чести мыслителю (который понимает, или которого понимают). Попробуем быть ЧЕСТными.
Барт фиксирует тот очевидный факт, что европейское сознание все дальше отходит от того, чтобы слышать в тексте голос конкретного человека. Труд переписчиков сохранял еще в какой-то мере этот живой голос. Хотя определенная организация книжного листа и тома в целом явно придавала книге вид изделия с самостоятельным значением, но сама малая численность книг, когда практически всякая была библиографической редкостью и совершенно уникальным произведением, подчеркивала уникальную самобытность авторского голоса, звучащего в тексте. Изобретение книгопечатания, во-первых, усилило эту тенденцию превращения книги в «самостийную» вещь, а во-вторых, свело на нет уникальность каждой отдельной книги. Развитие периодической печати и «массовой литературы» окончательно превратило книгу из авторского произведения в предмет обихода, притом обесценив его из мастерского изделия в продукт труда рабочего-поденщика. Уже не люди пишут, а «пишут газеты», не люди, а средства массовой информации «имеют определенное настроение и мнение», «выражают удовлетворение или обеспокоенность». Средства массовой информации наряду с уже совершенно безличными формами слова в виде рекламы, инструкций, информационных сетей и т.д. ставят текст в один ряд с природными условиями существования>12. Все это совершенно определенно представляет собой «болезнь к смерти» для фигуры Автора.
Но, конечно, только лишь указанием на обезличенный характер массового производства речевых конструкций смысл провозглашенной Бартом смерти Автора не исчерпывается. Как мне представляется, речь идет о различении двух инстанций, если не отождествляемых, то, по крайней мере, тесно коррелированных ранее: во-первых, это «скриптор», как реальный человек, записывающий некий текст, рождающийся в этом качестве одновременно с текстом и уходящий со сцены в небытие после выполнения этой функции, и во-вторых, «Рассказчик», как внутренняя составляющая текста, как то «Я», от имени которого ведется повествование. Этот «Рассказчик» присутствует не только в текстах, написанных от первого лица, когда автор вводит в произведение «самого себя» в качестве героя или персонажа, наподобие Данте, показывающего читателю свой Рай и Ад. Даже если автор не использует местоимение «я», оно подразумевается рассказом. Даже если он говорит о себе в третьем лице или обращается во втором, его речь все равно звучит от первого лица.