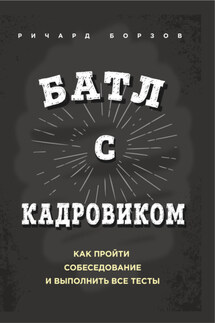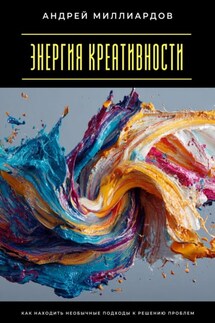Реальность текста - страница 11
Бывает и так, что произведение адресовалось первоначально конкретному лицу или лицам или самому себе (письма, дневники и т.д.), но и в этом случае такое произведение заинтересует нас лишь в той мере, в какой оно делает возможной в качестве своего адресата ту самую таинственную фигуру Другого. Собственно, сам факт широкой публикации личной переписки, дневников кого бы то ни было, любовных стихотворений, имеющих вполне конкретное посвящение, литературных вещичек, появившихся в особой атмосфере тесного круга друзей, имеющих это дружеское общение в качестве материала и до конца понятных только в этом тесном кругу, показывает, что все это имеет значение не просто исторических документов, казусов, интересных для специалиста-историка, но затрагивает и эту «широкую публику», задевает что-то очень существенное в каждом человеке. Эта «переадресация» может происходить как по воле автора, так и помимо, и даже вопреки ей, но если она случается, то это означает, что, обращаясь к некоему конкретному человеку, автор адресовался не только, а может быть, и не столько к нему, что он уже в момент написания каким-то образом имел перед собой кого-то совсем Другого. Впрочем, за такой публикацией может стоять и просто угождение любопытству сплетника.
Фигура Другого является порой единственным предметом (Gegen-stand) автора, и в этом случае получается художественный текст в собственном смысле слова, порой эта фигура располагается где-то на периферии взгляда автора, подвигая его, тем не менее, на некоторую «красивость» речи и «лирико-философские отступления» в личных письмах и дневниках. Можно взять на себя смелость и сказать, что вообще всегда, даже в том случае, когда пишущий вовсе не имел в виду никого другого, кроме своего непосредственного адресата, обращенность к Другому все-таки случается реально. Говоря, мы всегда говорим не только кому-то, но и, выражаясь театральным термином, – «в сторону», а точнее, видимо, – «наверх».
Участвуя в создании текста, фигура Другого продолжает организовывать его существование в качестве более или менее определенного топоса, на который ориентировано, к которому обращено высказываемое в тексте. Какие это имеет последствия? Тот Другой, который является другим для автора, в таком же положении находится и по отношению ко мне. Таким образом, если сохранять метафору текста как послания, письма, имея в виду его адресованность, текст представляет собою письмо ЧУЖОЕ. Он и читается всегда как чужое письмо: с тем же замиранием сердца, с тем же кантовским «незаинтересованным наслаждением», – читается как совершенно чужое письмо, меня лично никак не касающееся, но задевающее что-то во мне и в моем мире.
Сообщение, обращенное непосредственно и исключительно лично ко мне, я никогда не способен воспринять как текст, только взглянув хотя бы на миг со стороны на это сообщение – как на такое, которое как бы ко мне и не относится, – можно им полюбоваться или улыбнуться ему. Герой или персонаж анекдота не способен смеяться изнутри анекдотической ситуации, смеемся мы – над чужой историей. Так же как Ромео и Джульетта не плачут, они живут, а плачем мы. Смеяться же или плакать над своей жизнью можно только отнесясь к ней как к «чужой истории» – анекдоту или трагедии. Как это ни парадоксально, для того чтобы в качестве художественного слова потрясти меня до основания, речь, звучащая в тексте должна не обращаться лично ко мне. Но в действительности все очень просто, надо только осознать, что под словами «лично ко мне» понимается обращение к моей «личности» (Personlichkeit), как социальной личине. Моя же собственная душа для меня самого является, в конечном счете, чем-то таинственным и загадочным, поэтому обращение к ней со стороны текста также представляется мне чужим письмом, и сама возможность такого обращения неизбежно имеет несколько мистический характер.