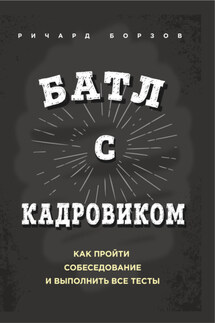Реальность текста - страница 9
М.М. Бахтин определяет в качестве единицы речи «высказывание», понимая его как некий целостный носитель целостного смысла. Высказывания могут быть очень короткими – в одно слово, могут быть очень большими – в целую книгу, важно, что несут они некоторый законченный смысл, ответ на определенный вопрос («то, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла»>9). Однако очевидно, что текст, как таковой, обладает гораздо более сложной природой. Он состоит из высказываний, но не сводится к их сумме, он сам в целом является высказыванием, но не сводится к этой роли, к своей коммуникативной и информативной функции. В речи всегда звучит не только больше, чем говорящий должен сказать (очевидная информационная избыточность языка), и не только больше, чем он хочет сказать, но и больше, чем слушатель способен четко и осознанно уловить, больше, чем он способен спросить: «а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса» (В. Высоцкий). «О хорошем стихотворении никто не скажет, откладывая книгу: «Я уже знаю его». Наоборот: чем лучше я его узнаю, чем глубже понимаю… тем больше может сказать мне по настоящему хорошее стихотворение»>10. Причем это в полной мере относится к любому тексту, не только к стихам; эта глубина порой совершенно неожиданно обнаруживается в речевых событиях казалось бы совсем чуждых поэзии. Эти двери в небо могут распахнуться перед нами всюду, где присутствует язык. В свете этого ясно, что нас интересуют, собственно, тексты художественные – в широком смысле, в том смысле, что практически любой текст может быть увиден как текст художественный, раскрывающий нам вышеупомянутые двери.
Теперь попробуем, все-таки, сосредоточиться на том, каким образом текст существует, и какова его внутренняя организация. Попробуем сосредоточиться, несмотря на то, что то текст, который я пишу сейчас, так и норовит выйти из намеченной уже необходимой колеи последовательного изложения тем и каждой своей (или моей?) фразой провоцирует меня (или себя?) эти темы начать обсуждать все разом, а потом, не окончив, перескочить на другие, более в этот момент интересные. Попробуем все-таки сосредоточиться, потому что в отличие от текста, который я сейчас пишу, текст, лежащий сейчас перед читателем, вовсе не столь болтлив в отношении своих возможностей и перспектив. Он – «другой» текст в другом «сейчас».
Текст никогда не проболтается о своих возможностях. В этом – его заявка на богатство, и в этом парадокс, по крайней мере, на первый взгляд: в свете того, что говорилось только что о невмещаемой нами щедрости текста, и в свете здравого смысла. Ведь назначение текста и обеспечение его существования в том, чтобы быть читаемым и понимаемым: именно и только через интерпретацию текст входит в культурную среду и начинает жить. Хотя бы один читатель для этого нужен, в крайнем случае, – сам автор.
Как правило, обыденное представление об авторе и читателе сводится к тому, что первый «выдает на-гора» и складывает в огромный сундук культуры некие свои произведения, которые затем оттуда берутся и интериоризируются вторым действующим лицом в свой внутренний мир, который здесь, собственно, и является единственной духовной реальностью, за исключением, разве что, духовного мира автора, но о нем ничего нельзя знать, кроме того, что пробуждено его книгами в душе читателя. Поверхностное кантианство давно уже стало общественной идеологией.