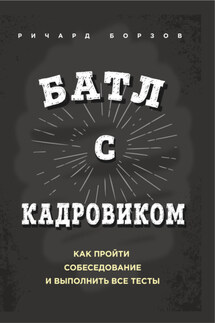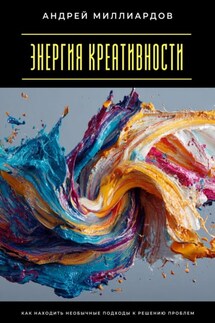Реальность текста - страница 10
На мой взгляд, было бы гораздо правильнее высказаться прямо противоположным образом: через фигуру Автора – в акте написания – текст вы-ходит, выделяется из культурной среды: происходит нечто подобное «кристаллизации любви» по Стендалю: авторский замысел, как невзрачная ветка, опущенная в перенасыщенный соляной раствор, обрастает волшебными узорами, кристаллизующимися из языка, перенасыщенного смыслами: текст образуется, собственно, этими «кристаллами языка», которые оказались вытянуты из раствора ниточкой (веточкой) мысли Автора. Посредством же чтения текст возвращается в культурное пространство: рукописи не горят, но они растворяются. Не буквально, конечно, – они не исчезают бесследно в порождающе-поглощающем лоне, не об этом речь, но они заново и более мощно насыщают язык.
Как всякое сравнение, хромает и это. Оно провоцирует на статичное, вещественное представление о тексте и о языке. Оно закрывает от нас то, как текст сбывается в бытийствовании человека, а именно это для нас единственно важно. Впрочем, максимум, что можно требовать от сравнения, – чтоб оно хромало не на обе ноги.
Не следует, видимо, забегать вперед, не стоит и пренебрегать зернами очевидностей в обыденном сознании. Начнем с того, что уже сама процедура письма, как таковая, делает невозможным отождествление себя с текстом. В случае устной речи мои слова – это, в каком-то смысле, я сам: я нахожусь в этом случае внутри собственной речи – со всеми моими эмоциями и интонациями, с моим голосом и жестами. Кроме того, устная речь (не по бумажке, как озвучение написанного, а действительно устная) демонстрирует рождение мысли, будучи включена в целостность тела, существуя неотрывно от него. Она содержит в себе и оговорки, и исправления, и паузы задумчивости; благодаря этой вынесенности во вне моего внутреннего проживания такая речь роднее мне, чем письменное слово, она есть я, говорящий. Правда, «мысль изреченная есть ложь», но тут, по крайней мере, лгу я, – глядя в глаза этим вот людям. Написанное же мною, при всех своих достоинствах в виде гладкости и продуманности, оставляет за скобками все, о чем говорилось выше, – это уже не я, но лишь «мое», мною сделанное с большим или меньшим усердием и любовью. Здесь с самого начала присутствует дистанция «мастер – изделие».
Еще в одной подробности право обыденное представление о литературном творчестве (в широком смысле): все, что ни пишется, пишется для кого-то. Всегда есть адресат, текст кому-то предназначен, он представляет собой в определенном смысле слова послание, письмо от корреспондента адресату. Только вот – что это за адресат? Кому текст предназначен, более или менее понятно: читателю в той или иной форме. Но значит ли это, что он читателю адресован? М.М. Бахтин полагает, видимо, как само собою разумеющееся, что адресат и получатель идентичны. Его схема «я – другой» выражает именно коммуникативную связь автора и читателя, как конкретных живых людей.
Когда писатель, поэт (равно как и художник, скульптор, композитор и т.д.), находясь перед чистым листом бумаги (глиной, мольбертом, роялем и т.д.), – творит: вдохновенно и мучительно, – в этот момент к кому обращается он? К чему он обращен (повернут) в этот момент своим существом? – Никак не к зрителю, налично данному или предполагаемому в некоем историческом времени. Та инстанция, которую он имеет перед собой, и к которой устремлено совершаемое им творение, как движение его экзистенции, не только не тождественна ни одному конкретному человеку, но и вообще – в пределе своем – вряд ли имеет что-либо общее с чем-либо законченным, известным и по-человечески понятным. То Другое, что является действительным адресатом, не находится в человеческих измерениях. Произведение может быть предназначено для широкой (или узкой) публики, а может быть и не предназначено ни для кого, но адресуется оно в момент творения всегда к этому Другому (разумеется, если мы имеем дело с художественным текстом, хотя бы и в очень расширительном смысле).