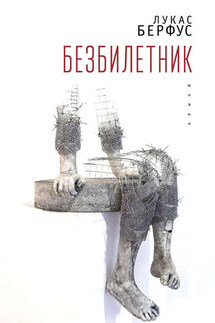Сергей Киров. Несбывшаяся надежда вождя - страница 5
Когда генеральным секретарем ЦК КПСС избрали Л.И. Брежнева, сталинскую версию аккуратно отодвинули в тень. Оставался вариант с одиночкой. Однако, сами понимаете, после ужасных разоблачений предшествующих лет исследователи не спешили его разрабатывать. Биографы Кирова, писавшие между «оттепелью» и перестройкой, обходили щекотливую тему стороной.
С.В. Красников ответил на вопрос «Кто организовал террористический акт?» пространной цитатой из речи первого секретаря ЦК на вышеупомянутом XXII партсъезде (книга вышла в конце лета 1964 года). С.С. Синельников в серии ЖЗЛ (книга вышла в конце 1964 года) ограничился двумя фразами: «…Кирова сразила пуля убийцы. Скончался Киров мгновенно – вероятно, без мучений». Ю.А. Помпеев в документальной повести «Хочется жить и жить» (вышла в начале 1987 года) использовал другой прием: процитировал свидетельства очевидцев покушения. И ни слова о «заказчике», кто бы им ни был…
«Перестроечная» эпоха откатилась, по сути, к хрущевским временам. Д.А. Волкогонов, «придворный» историограф М.С. Горбачева, в 1989 году повторял: «Даже сталинская любовь к Кирову (факты убеждают, что она была) не остановила, по-видимому, его перед тем, чтобы устранить популярнейшего человека, потенциального противника». И снова понадобилось А.А. Кирилиной поднимать документы, чтобы сделать вывод, в 2001 году уже окончательный: «Мнение о соперничестве Сталина и Кирова на политической арене глубоко ошибочно»[8].
Нечто новенькое предложил А.М. Иванов в книге «Логика кошмара». Он обратил внимание на жену Кирова – М.Л. Маркус, еврейку. Молотов, Ворошилов, Калинин и многие другие имели жен той же национальности. Что это? «Проходной балл», открывающий путь наверх»?! И вот ключевой тезис: «Россия… вынесла чудовищной силы удар, нанесенный ей примазавшимися к революции инородцами, и начала, отдышавшись, наносить контрудары, первый раз – в 1926–1927 гг., второй раз – в 1936–1938 гг.».
На XVII партсъезде противники «патриотической» линии Сталина предложили Кирову возглавить заговор, и он согласился, но предпочел «революции» «эволюцию» – «постепенное оттеснение Сталина от руководства… как тридцать лет спустя поступили с Хрущевым». Однако со Сталиным «этот номер не прошел»[9].
Итак, все возвращается на круги своя. Гибель Кирова явно изменила политический вектор, а кто стоял и стоял ли за убийцей, по-прежнему неясно. Впрочем, не свидетельствует ли это в пользу того, что сама взаимосвязь строится на распространенной логической ошибке: post hoc ergo propter hoc (после этого – значит, вследствие этого)? Ведь не обязательно убивать кого-либо, тем более Кирова, чтобы запустить конвейер репрессий. В конце концов, можно что-то поджечь или взорвать, свалив все на оппозицию, и получить тот же результат. И никакой Киров не сможет остановить праведный гнев пролетарских масс…
А если Кирова убил не Сталин, а «псих» Николаев, то дело и вовсе, похоже, не в терроре. А в чем-то другом. Неспроста же Сталин шесть лет торжественно «оплакивал» смерть Кирова, а после войны вдруг перестал…
В январе 1991 года в «Правде» один из «архитекторов перестройки» А.Н. Яковлев признал, что «последствия этой трагедии оказались настолько глубокими, что породили множество политических гипотез. Одна из них гласит: сталинизм – естественное и закономерное порождение революции, социалистической идеи, к чему-то подобному революция не могла не прийти…». Стоит заметить, если сталинизм – «закономерное порождение революции», то Киров бессилен что-либо сделать. На то оно и закономерное. А вот если сталинизм – этап, не запрограммированный изначально революцией и социалистической идеей, тогда, да, от Кирова могло зависеть немало. И нужно лишь отыскать в нём, вокруг него или в прожитых им годах это уникальное что-то, от чего так многое зависело…