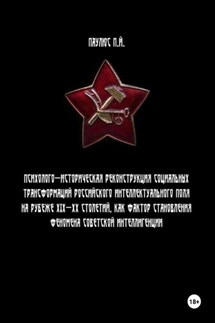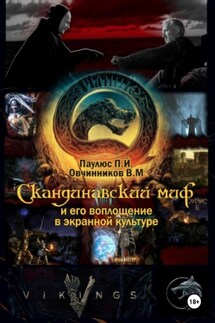Скандинавский миф и его воплощение в экранной культуре - страница 10
Примером этой всеобъемлющей категории может быть «ощущение» обреченности человечества перед вызовами мироздания, проявляющееся в антиномии жизни и смерти, заполняющее сознание древнего человека, делая неизбежной встречу его с мифом. Воплощением этого становится идея конца времен, пронизывающая, в том числе скандинавскую мифологическую традицию[87].
Особое внимание автор наряду с феноменом коллективизма первобытного сознания уделяет закону партиципации, обеспечивающему синтез внутренних и внешних информационных потоков в рамках системы человек (общество) – мир, благодаря которому первобытное сознание раскрывается и связывается с внешним миром[88]. Под ним подразумевается погруженность мифологического субъекта не только в коллектив, но и соотнесение себя с окружающим миром. Причем этот процесс носит глобальный характер, и, на наш взгляд, здесь уместно говорить о полноценном единении.
Примерами партиципации могут служить такие явления, как тотемизм, фетишизм или иные первобытные формы религии, демонстрирующие, что все сущее развертывается перед субъектом и воспринимается им, как утвержденная многими поколениями данность для собственного восприятия. Соответственно, это может означать, что данный субъект не только разделяет обреченность событий в их однозначном явлении миру, но и то, что он сам является носителем этой интерпретации сущего, будучи органичной частью внешнего мира, в которую он плотно и сознательно интегрирован. Прибегая к метафорическому методу, можно сказать, что в самой природе первобытного человека уже есть семя фатализма и провиденциализма, с которыми он вынужден соглашаться, так как они является частью его природы. Несмотря на дискуссионность данной гипотезы, хотелось бы отметить, что эпос скандинавских стран действительно «пропитан» именно этой идеей. Самым ярким ее воплощением, пожалуй, является гибель богов и всего мира. Об этом конце сущего знают все представители древнескандинавского сообщества и воспринимают его как нечто обыденное и естественное. Нельзя не заметить, что подобного рода принцип можно рассматривать в качестве одного из концептов «основного мифа», как известно, базирующегося на идее вечного противостояния противоположных сил[89].
Можно предположить, что в своих логических построениях Леви-Брюль исходил из того, что все восприятие мира древним человеком ориентировано не на поиск объективных характеристик, а на субъективно-чувственные, мистические формы освоения универсума, что не позволяет рассматривать мышление первобытной эпохи в рамках реального мира и мира сверхъестественного в отрыве друг от друга. Всё, с чем сталкивался субъект, существует как в действительности, так и в мире духов или иной потусторонней реальности. Наглядный пример этой билокации – человек, который существует сейчас как существо из плоти и крови, в мире потустороннем приобретая иные формы идентификации в пространстве, как отражение в воде или тень[90].
Первобытное или мифологическое мышление совершенно бессмысленно рассматривать с точки зрения опыта, как подчеркивает Леви-Брюль. Оно действительно воспринимает окружающий мир как данность, а этот факт отнюдь не противоречит факту другому, согласно которому тот же самый окружающий мир преисполнен сверхъестественными явлениями и событиями, которым субъект не способен противопоставить ничего, кроме своей готовности принять их в качестве проявления судьбы, рока или божественной мудрости