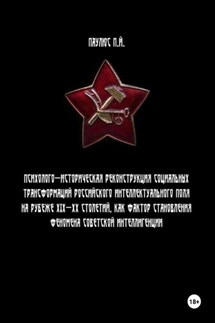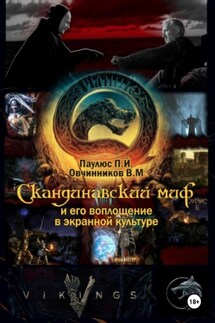Скандинавский миф и его воплощение в экранной культуре - страница 9
Нельзя не заметить, что понимание мифа как особой аллегории интернационально по своей природе. На определенном этапе развития социальных отношений и вытекающих из них духовных связей еще греческие философы толковали мифы как аллегории, придуманные их предшественниками, пожелавшими прибегнуть к иносказанию. Так, Эмпедокл рассматривал многочисленных божеств как своеобразные воплощения: Зевс – аллегория огня, Гера – воздуха, Гадес – земли, а Нестис – воплощение влаги. Множество аналогичных толкований гомеровских богов и богинь было предложено целым рядом греческих философов. Так, Анаксагор толковал Зевса как разум, Афину – как искусство и т. п. Аллегорические толкования давались и целым мифам. Например, миф о Кроносе и его жене Рее можно трактовать как аллегорию неуклонного изменения земли во времени, поглощение одного другим. Аналогичные толкования мифов Илиады и Одиссеи могут быть обнаружены в рассуждениях Плутарха, что очередной раз подтверждает тезис о философичности мифа, сакральности знания, в нем хранившегося, повлиявшего на развитие так называемой «первонауки»[80].
Несомненно, очень значительное место понятие мифа занимало и в рассуждениях целого ряда крупных мыслителей прошедшего столетия, среди которых хотелось особо отметить А.Ф. Лосева[81], Л. Леви-Брюля[82], К. Леви-Стросса[83] и Дж. Фрезера[84].
Обратим внимание на рассуждения А.Ф. Лосева. Он трактует миф следующим образом: особое осмысление действительности, которое не ставит, а снимает проблемы. Если сравнить миф c наукой и философией, то мы увидим, пишет Лосев, что научное сознание или философия, как отдельная дисциплина, всегда проблематизируют действительность. Мифология же, напротив, сама по себе содержит именно те смыслы, которые уже преподнесены как данность и не требуют ответа. То есть в мифе уже есть ответы на все вопросы. Соответственно, фундаментальные явления человеческой жизни воспринимаются субъектом мифологического явления как данность. У данного субъекта нет необходимости задавать вопрос о том, почему возникают эти явления и какова их природа c философской точки зрения. Они уже существуют, это то, c чем нужно смириться[85].
В этом смысле вполне уместно будет сказать, что существование всех вещей в мире, c точки зрения мифологического сознания, предопределено, и мы действительно имеем дело c своеобразной обреченностью сущего и неотвратимостью, которая пронизывает всю конституцию универсума. Соответственно задача субъекта в рамках подобной картины мира заключается не в том, чтобы постигнуть те или иные вещи или явления, а просто найти в себе силы их воспринять.
В плане восприятия А.Ф. Лосев призывает читателя обратить внимание на то, что миф не требует от субъекта постижения чего-либо вслепую. Наоборот, подлинное восприятие основано исключительно на чувственных образах, оно подкреплено эмоциями, а зачастую еще и личностной оценкой. Отсюда можно сделать вывод о том, что мифологическое сознание ни в коем случае не воспринимает добродетель, горесть, смерть или иное фундаментальное понятие как нечто абстрактное. Эти феномены сознания всегда воплощаются для субъекта, носителя мифологического сознания, в конкретной форме, а воспроизводятся, как правило, и вовсе в эмоционально-образной форме[86].
В трудах Л.Леви-Брюля характеризуемый нами феномен рассматривается в неразрывной связи с мышлением и самосознанием, определяя формирование концепта коллективных представлений, имеющих «надсоциальную», во многом иррациональную природу. Принцип данного вида мышления, по мнению исследователя, заключается в том, что он основан на генерации коллективных представлений. Это означает, что любой феномен внешнего или внутреннего мира един в своем отображении в сознании у всех членов той или иной социальной группы. Знания, представления или восприятие того или иного явления передается в обществе, где доминантой является архаизация массового сознания, инструментализируемая на протяжении нескольких поколений.