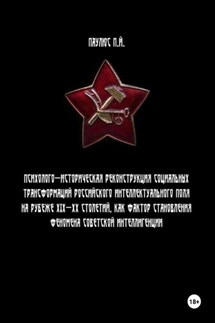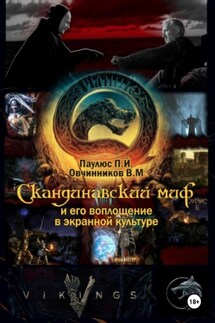Скандинавский миф и его воплощение в экранной культуре - страница 7
Применяя в рамках исследования базовые методы аналитической психологии, автор рассматривает архетипы через призму культурологического анализа, что позволяет трактовать последние в качестве механизма, генерирующего пространство культуры.
Комплексный характер подхода позволяет рассмотреть семиопсихологемное пространство культуры с позиции таких научных дисциплин, как философия, культурология, психология, синергетика, находящихся в теснейшем единстве при рассмотрении выделяемых нами проблем. При этом авторская позиция в исследовании культуры носит компаративный характер.
Основная гипотеза исследования заключается в том, что в синтетических видах искусства весьма ярко проявляется комплекс архетипов, порождающих новые мифологемы, столь же яркие, как и мифологические системы различных народов, примером чего становится «скандинавский миф», фаталистические акценты которого становятся одним из факторов становления новой культурной парадигмы эпохи глобализирующейся культуры.
Характер нашего исследования определяет использование разнообразных по своей специфике источников, основными из которых являются многочисленные скандинавские саги эпического периода развития литературной традиции региона, демонстрирующие формирование базовых архетипических моделей, активно используемых в кинематографе и игровой индустрии эпохи глобализации.
Глава I. Провиденциальная метаидея в рамках феномена становления скандинавского культурного архетипа, религиозно-мифологические контексты
1. Миф и мифологическое сознание как факторы становления культурных архетипов в ракурсе формирования культурного ландшафта.
Мифологическое сознание, базирующееся на особом восприятии мира, является одной из базовых характеристик развития любого архаического общества. В свою очередь это порождает особые формы переосмысления прошлого, а зачастую и настоящего, что выражается в виде многочисленных архетипов, кристаллизующихся в рамках массового сознания, окончательно оформляя такую структуру, как миф.
Божество для древнейшего человека находится за рамками жизни и смерти, являясь особой реальностью, определяющей различные перипетии существования «смертных», и представляется в богатейшей мифологической традиции, которую можно трактовать, как особую форму реконструкции окружающей действительности. Работая с мифологическими источниками, можно реконструировать основные элементы исторического сознания, выражающиеся в архетипе того или иного этноса.
М.М. Маковский по этому поводу подчеркивал: «Важнейшим средством концептуализации окружающего мира для архаического человека была именно символика, которая теснейшим образом связана с магическим мышлением язычников. Любое действие и движение… облекались в форму символа, соотносимого с божественной благостью, опасностью, жизнью или смертью, божественным очищением, принесением клятвы и т. д.»[69].
Подобного рода мировосприятие в высшей степени идеалистично, и исходит оно из того основания, что «миф есть сокровенное свидетельство, проекция высшего мира в образах. Миф не выдумка, не человеческое произведение в своей основе. Миф – реальность, а не фантом человеческого сознания», представляющий собой «реальность иного порядка, чем реальность так называемой объективной эмпирической данности», как подчеркивал Н. А. Бердяев[70]. Он обращал самое пристальное внимание на феномен мифологемы как своеобразного образа или сюжета, что в свою очередь порождает связь мифа и символа, из чего вытекает особое видение мифического процесса как движения жизни, то есть особой формы «живого знания»