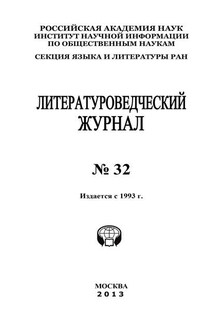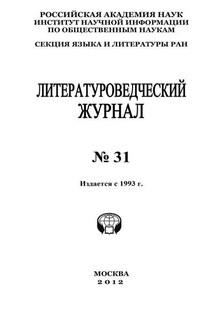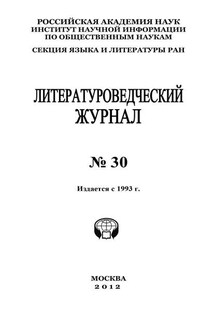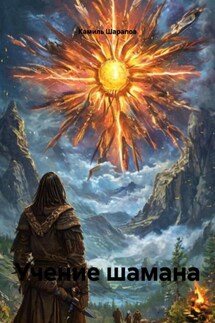Собрание сочинений в 4 томах. Том 3, книга 2. Американский романтизм и современность - страница 26
– Разрази меня гром, если он был мертв. Его подкосила не желтая лихорадка, а смерть дочери и жены, лежавших в той же комнате. И как только они все забрались туда? Что их занесло?
– Их ноги, конечно, – угрюмо проворчал второй.
– Но зачем они набились все в одну комнату?
– Чтоб облегчить нашу работу, конечно.
– Ну, я им благодарен от всей души. Но, черт возьми, это было несправедливо – класть его в гроб прежде, чем он перестал дышать. Мне показалось, что его последний взгляд молил подождать еще немного.
– Все равно он не протянул бы долго. Чем быстрее помер, тем лучше для него. И для нас тоже. Ты заметил, как он смотрел на нас, когда мы уносили его жену и дочь?..
Увидев, что я стою в нескольких шагах и слушаю их разговор, он спросил: “Что надо? Кто-нибудь умер?” Не отвечая, я бросился бежать» (141).
Реалистическая острота восприятия событий Брауном предвосхищает художественные открытия писателей критического реализма XIX в. Запоминающиеся картины эпидемии в Филадельфии как в зародыше содержат в себе многое, получившее развитие в американском романе позднее. Описание больницы, наполненной умирающими от желтой лихорадки, принадлежит к числу наиболее сильных в романе: «Воздух был наполнен смертоносным зловонием. Сгущающиеся миазмы душили меня. Испражнения, вызванные болезнью и лекарством, стекали на пол. Мой сосед по койке боролся со смертью, и моя постель пропиталась отвратительными выделениями, которые извергались из его желудка. Вы не поверите, что среди всего этого ужаса слышались звуки смеха. Внизу здания, верхний этаж которого наполняли больные и умирающие, шел веселый пир. Негодяи, нанятые за большие деньги ухаживать за больными и выносить мертвых, пренебрегли своими обязанностями и, выпив спиртные лекарства, предназначавшиеся для страждущих, предались необузданному разгулу и разврату. Временами к нам заглядывала женская физиономия, распухшая от пьянства и пороков. На нее устремлялись глаза умирающих, молящие о капле холодной воды или просящие помочь им отвернуться от ужасных корчей и смертного оскала соседа. Посетительница оставляла пир лишь для того, чтобы посмотреть, кто еще умер. Когда она входила в комнату, с налитыми кровью глазами и заплетающимися ногами, уповать на помощь было бесполезно. Но вот она уходила, другие поднимались по лестнице, у дверей ставился гроб, и несчастного, сердце которого еще билось, хватали и волокли по полу к двери» (173–174).
Взволнованно-эмоциональное восприятие действительности идет у Брауна рука об руку с пристальным вниманием к реальности, к тому, что сам писатель выразил в формуле: «Надо исходить лишь из того, что видишь своими собственными глазами».
И еще одна особенность отличает романы Брауна. Американская проза XIX в. обычно несет на себе черты нравственного пуританства. Браун лишен этой ограниченности. Как наследник литературы Просвещения с ее интересом к пробуждающемуся человеческому чувству он не боится вводить в свои романы то, что встречает в жизни. Он не отворачивается стыдливо при виде поступков, не укладывающихся в нормы кодекса о браке.
Едва ли бы было справедливым относить романы Брауна, как это делают многие американские литературоведы, к типу так называемых «криминальных» романов.
Один из лучших романов Брауна – «Эдгар Хантли, или Мемуары лунатика» (1799) – посвящен истории раскрытия преступления. Можно ли на основании этого причислить его к жанру детектива? Главным героем романа Эдгаром Хантли движет не стремление покарать виновника преступления, а своеобразное любопытство, своего рода страсть к раскрытию психологических мотивов преступления. Поимка преступника, а тем более его наказание даже не приходят на ум герою. Не случайно в романе нет ни полиции, ни вообще каких-либо властей, которые в силу своих обязанностей должны были бы заинтересоваться таинственным убийством.