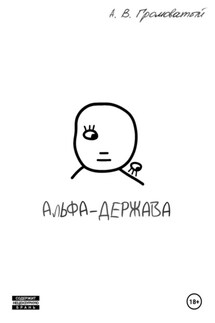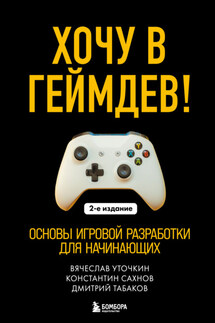Социоприматы - страница 21
Инстинкт самосохранения – это наш встроенный телохранитель. Он всегда на посту, вне зависимости от того, в деловом ли вы костюме или в пижаме с утятами. Ему всё равно, что вы думаете о смысле жизни или как называете свои эмоции. Он не спит, не рассуждает, не читает Канта – он просто есть. И постоянно нашёптывает: стой, прячься, беги, влепи оплеуху, уноси конечности.
Это он включает адреналиновую сирену при звуке опасности, настраивает зрение на режим ищи выход, и вот вы уже сканируете мир не глазами – а зрачками ящерицы на грани жизни и смерти. Это он заставляет вас шарахаться от риска, цепенеть перед угрозой, огрызаться на незнакомца и планировать маршрут отступления при виде начальника, спешащего в вашу сторону с выражением лица, напоминающим передвижение литосферных плит. Это у него нет времени на вежливость – одна только древняя, но понятная цель: не сдохни, пожалуйста.
Когда речь заходит о самосохранении, биология срабатывает без осечек – мозг улавливает малейший намёк на угрозу и моментально включает аварийный режим. В дело вступает симпатическая нервная система, и организм начинает экстренную мобилизацию: сердце колотится, как заводной мотор, дыхание становится частым и поверхностным, мышцы напрягаются, а глаза расширяются, чтобы уловить мельчайшие детали окружающего мира. Адреналин заливает систему так же стремительно, как кофеин – вены офисного работника с утра в понедельник.
В животном мире всё просто и не обременено рефлексией: никто не спорит с природой и не заморачивается о философии. Олень замирает при малейшем шорохе – не потому что ценит тишину, а потому что знает: если его заметят волки, он – еда. Палочники и богомолы исчезают на глазах – идеальные иллюзии, как и хамелеоны. Эти мастера маскировки не устраивают эффектных номеров – они просто испаряются с радаров. Только что были – и уже нет. И начинаешь сомневаться: а были ли вообще?
Сурикаты – эти нервные часовые саванны – мгновенно поднимают тревогу при первых признаках опасности, спасая своих сотоварищей. Яркие лягушки-древолазы, ядовитые змеи, глубоководные рыбы, пауки – живые рекламные щиты на дороге к саморазрушению: Не трогай меня. Я – токсичен, буквально. И если кто-то всё-же рискнёт испытать судьбу, ответ будет быстрым и, скорее всего – фатальным.
Для наших предков реакция бей или беги была не красивой метафорой, а буквально вопросом жизни и смерти. Представьте: вы – гордый первобытный охотник, крадётесь по саванне в поисках чего бы пожрать, и тут – из кустов выскакивает ящер- броненосец. Не для комплиментов, а чтобы устроить перекус – с вами в главной роли. Мозг мгновенно выносит гениальное решение: хватай копьё и атакуй или беги так, чтобы пятки сверкали. И всё это – за доли секунды. Ошибка стоит дорого: либо вы возвращаетесь с добычей, либо становитесь частью пищевой цепочки. Логика простая, как каменный топор: быстрота реакции = шансы на жизнь.
Теперь, конечно, пещерные львы все повымерли, но их место уверенно заняли брифинги, совещания, тайм-менеджмент, кредитные обязательства и настырные тётки, которые при любом удобном случае пытаются пролезть без очереди. Но ваши инстинкты об этом, конечно, не в курсе. Им что саблезубый, что налоговая – угроза есть угроза. И работают они по старой схеме: любое раздражение – повод для полной мобилизации. Сердце бьётся, мышцы напряжены, адреналин хлещет из ушей, но… вы не можете вмазать надоедливому начальнику увесистую оплеуху или сбежать с рутинного заседания по стратегическому планированию – нельзя.