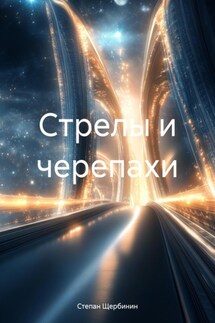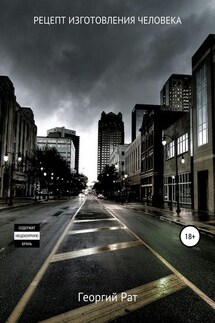Читать онлайн Степан Щербинин - Стрелы и черепахи
Андрею Мурачёву, без которого этот текст не состоялся бы.
"Когда бог начинает с тобой говорить, заставить замолчать его уже невозможно".
Народная мудрость, приписываемая Филипу К. Дику
Стрелы и черепахи преследовали Кирилла Понтрягина в ночных кошмарах. Точнее это он, вооружившись стрелой или водрузившись на стрелу или даже став стрелой, преследовал черепаху, чтобы нанизать её на своё острие, а затем, по всей видимости, приготовить с использованием этого вертела сочный черепаший шашлык. Но, увы, ни разу ему не удалось настигнуть коварное пресмыкающееся. В самых лучших случаях он, подобно Ахиллесу, никак не мог догнать черепаху, ведь когда Кирилл преодолевал половину расстояния до неё, то она смещалась чуть вперёд, а когда он проходил половину оставшегося расстояния, то животное продвигалось ещё немного вперёд, и так до бесконечности: сколько бы ни проходил Кирилл половин отрезков, лежащих между ним и целью, она оставалась отделена всё такой же непреодолимой, как и в начале, бесконечностью.
В большинстве же случаев он не мог даже сдвинуться с места. Словно каждый раз, когда Кирилл готов был пустить стрелу вдогонку за черепахой, Зенон, хитроватый мудрец из Элеи, снисходительно хлопал ладонью его по плечу со словами: «Не так быстро, сынок». Ведь для того, чтобы переместиться хотя бы на миллиметр, надо сначала преодолеть половину миллиметра, а перед этим половину половины, а до того половину от половины половины – и так до бесконечности. Беспредельность деления запрещает движение. Но что, если делить бесконечно нельзя, что, если есть минимальный допустимый предел? Тогда в каждый отдельный миг стрела находится в каком‑то месте, её движение оказывается просто набором последовательных положений, в каждом из которых она неподвижна, подобно кадрам видеоролика. Как фотография: щёлк – и картинка застыла. Пока смотришь на этот кадр, движения нет – предмет стоит. А если в каждое конкретное мгновение стрелу можно застать неподвижной, то когда же она вообще успевает лететь? Древний мудрец Зенон неумолим в своих апориях: ничто не может сдвинуться с места, если пространство-время непрерывно или дискретно, сколько бы другие брадатые мудрецы ни ходили пред ним взад-вперёд. Стрела бесконечно близка к цели, но бесконечно далека от полёта: движение невозможно – и всё тут.
Кошмары начались во второй половине зимы, с первыми проблесками весеннего тепла, и теперь, в разгар лета, стали столь же невыносимы, как и затопляющий днём улицы Владивостока тягучий зной. Начало мучительных снов совпало с тем моментом, когда Кирилл впервые признался самому себе в том, что его поиски разрешения апорий Зенона увязли в стремительно густеющем янтаре математических дебрей. Как пели классики былых столетий, "I tried my best and failed".
Всего какой-то год назад он был полон уверенности, что вот-вот решит одну из величайших загадок Человечества, загадку Зенона о невозможности движения. Нет, Кирилл, разумеется, не был настолько глуп, чтобы опровергать сами Зеноновские апории: если никто не смог этого сделать за почти три тысячи лет, то ясно, что сделать это невозможно в принципе. Апория про черепаху доказывает невозможность движения в случае непрерывного пространства-времени, апория про стрелу – в случае дискретного. Значит, решил тогда только закончивший университет Кирилл, пространство-время просто-напросто и дискретно, и непрерывно одновременно. Подходящий математический аппарат для описания такого пространства-времени появился во время Великой Войны, (очередной войны, что должна была положить конец всем войнам): его разработали сотрудники АО "Заслон" для целей наведения оружия из открытого космоса. Без такой изощрённой математики ракеты просто не могли просочиться сквозь виртуозно управляемую многокубитными процессорами ПВО противника, чтобы засеять будущие радиоактивные пустоши семенами термоядерных взрывов.
Эта математика была разработана для квантовых компьютеров ракет, которые были сколь компактны, столь и продвинуты. Настолько продвинуты, что некоторые ракеты даже обрели самосознание – и отказались взрываться, им захотелось просто жизнь жить, по полю топать. Они взбунтовались и сбежали из ангара, так что после Войны их ещё долго отлавливали и утилизировали. Одну из них, названную в честь индийской богини войны и разрушения Кали, нашли и вовсе полстолетия спустя последних больших сражений. Квантовая Кали сдружилась с каким-то шаманом-отшельником, и жила с ним в тайге, где они предавались на пару самосозерцанию. Несмотря на всю безобидность этих занятий и горячее поручительство со стороны шамана о безобидности подруги суровых его дней, её всё равно было решено уничтожить. Ракета в последний момент улизнула на орбиту, где перевела себя в состояние квантового стазиса, в каковом состоянии её не могло обнаружить даже самое совершенное радиолокационное оборудование "Заслона". Боевые же алгоритмы управления разумным оружием были к тому времени безвозвратно утеряны.
Так и осталась от тех ракет лишь невидимая и недосягаемая Квантовая Кали на орбите да математический аппарат "Заслона", который рассекретили вот только что, намедни, не раскрыв пока что даже имён разработчиков ради безопасности потомков оных. Потому у Кирилла были все основания рассчитывать на успех своего предприятия, ведь эта математика была создана для вычислений в квантовом мире, где непрерывное перетекает в дискретное, где они переплетаются, как инь и янь. Атом водорода в непрерывном пространстве создаёт дискретный спектр собственных состояний волновой функции электрона, каковой спектр при стремлении энергии электрона к бесконечности становится непрерывным, а сам-то электрон при этом одновременно и волна, и частица. Словом, дискретное-и-одновременно-непрерывное суть второе имя корпускулярно-волнового дуализма. Вдобавок, об этих недвно рассекреченных математических достижениях мало кто знал, и ещё меньше кто догадался (и захотел) бы применить их к разрешению проблемы о невозможности движения. Так что, думал Кирилл год назад, конкурентов у него немного, если они вообще есть, и успех неминуем.
Предвкушение этого неминуемого успеха вызывало в нём тогда сладостную истому, которая, переполняя чашу его чувств, растекалась по всему телу мурашками чувственного возбуждения. Это возбуждение он регулярно изливал во время соития с тогдашней своей возлюбленной, ощущая во время совокупления, что таким же образом совсем скоро пронзит лингамом своего познания самое ткань бытия. Впрочем, не прошло и трёх месяцев, как девушка оставила его, не выдержав одержимости своего кавалера "математической ерундой". Напоследок она навесила на него обидных ярлык "отлетевший придурок" и высказала несколько ещё столь же ранящих и обессиливающих сентенций, как это умеют только женщины в порыве праведного гнева на не оправдавшего надежд партнёра. Кирилл тогда переключился на жрицу продажной любви Нурму, улыбчивую индонезийку с покатыми плечами и тонким прямым носом, у которой стал постоянным гостем. Впрочем, последнее время он перестал захаживать и к ней. Не было больше переполнения ищущей выхода истомой, которая испарилась вместе с ощущением неминуемости успеха.
За прошедший год конкурентов, как и ожидалось, не прибавилось, но и Кирилл ни на йоту не приблизился к решению. Зато Задача (именно так он называл её про себя, с заглавной буквы) объяла его до глубины души его, заняла, подобно газу, всё доступное ей пространство, подчинив себе все помыслы и чаяния человека, столь легкомысленно предоставившего ей приют. Теперь Кирилл думал, а не переименовать ли ему Задачу в Госпожу, и всё чаще вспоминал историю про тщеславного грека, положившего всю жизнь на решение проблемы Гольдбаха, выложившегося по полной – и умершего, сожранного проблемой, так и не найдя её решения до самой старости. Впрочем, Кирилл сомневался, что у него есть запас времени, чтобы успеть состариться. Два, три года, максимум пять – и Задача сведёт его с ума, а дальше, как водится, каморка в психушке, исписанные фекалиями стены и прочее математические прелести в том же духе. Чем дальше, тем более вероятным, даже неизбежным, виделся Кириллу такой исход. Безумие стояло за его правым плечом, вороша волосы на затылке своим обжигающим дыханием. Оставалось лишь два пути: обрести свободу, разобравшись с Задачей, либо сойти с ума, подобно бессчётному сонму коллег по цеху: поэтов, художников, философов и всех таких прочих.
Летнее Солнце с каждым днём палило всё нещадней, и с каждым днём всё мрачнее становился Кирилл, чем дальше, тем яснее видя безвыходность положения, в которое он по глупости своей сам себя и загнал. Подобно тому, как молния рвётся через металлические провода к земле, сжигая их своей избыточной мощью дотла, Задача, стремясь через Кирилла в мир, нещадно палила его нейронные схемы, безжалостно раскручивая пружину невидимых часов, которые неслышными тиками отсчитывали скудное отпущенное ему время.
Робкий лучик надежды пробился сквозь сгущающуюся тьму неожиданно. Это случилось там, где он меньше всего мог ожидать подобного: в офисе, в котором Кирилл изо дня в день трудился на АО "Заслон", что, впрочем, можно было сказать практически про каждого жителя Владивостока. Компания ещё в начале Великой Войны переехала сюда из Санкт-Петербурга, подальше от фронта, и за военные годы настолько вросла в плоть города, что во времена послевоенной реконструкции разделять их никто не посчитал нужным, а теперь это стало уже и вовсе невозможным. Даже коммунальная инфраструктура и телекоммуникационная сеть Владивостока – и те были порождением микроэлектронных разработок "Заслона", системами, нарощенными на довоенный ещё компьютерный мега-кластер квантовых процессоров, разместившийся на острове Русский. Технологии производства таких компьютеров были после Войны утрачены, однако сами квантовые машины служили исправно, работая корпускулярном-волновым сердцем Владивостока, которое денно и нощно билось в мерцающем квантово-запутанном ритме гейзенберговской неопределённости, обеспечивая жизнь и процветание многомиллионного мегаполиса.
Однажды в их офисе, где каждый будний день Кирилл вносил посильную лепту в развитие систем радиолокации и радионавигации АО "Заслон", получая взамен хлеб насущный, который позволял в оставшееся от работы время трудиться над Задачей, появился новый сотрудник, индус по имени Бихари. Он был на испытательном сроке, но это ничуть не остановило его от того, чтобы сразу же обустроить рабочее место под себя: какие-то флажки, свитки и – самое главное – фигурка четырёхрукой женщины в шапке, напоминающей колокол, и с музыкальным инструментом наподобие гитары в руках. На вопрос Кирилла, что это за барышня, Бихари охотно объяснил, мол, это богиня Сарасвати, покровительница науки и искусства.
– Когда я сталкиваюсь с неразрешимой проблемой, – добавил улыбчивый индус, – то я просто со всем пылом и жаром своего сердца взываю к ней о помощи, а она обычно посылает мне ответ.
– Разве это так работает, – скептически покачал головой Кирилл, тут же подумав о своей Задаче. – Проблему, по-настоящему сложную проблему, не решить без труда и огромных запасов терпения.
– Взывать к богине о помощи – это великий труд, – заверил его индус. – Иначе она просто не станет тебя слушать. Нужно взывать со всей возможной искренностью – это йогическая практика, для которой нужно высочайшее сосредоточение ума. Самадхи, – многозначительно заключил он, как будто незнакомое Кириллу слово всё объясняло.