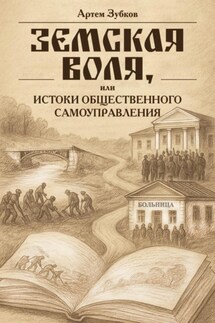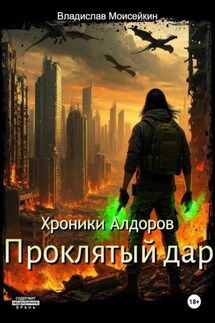Земская воля, или Истоки общественного самоуправления - страница 4
Письменный стол, как и ожидалось, был идеально организован – отец всегда отличался педантичностью. Папки с документами, аккуратно подписанные, стояли на полках. Алексей начал методично просматривать их.
Большая часть бумаг касалась имения – договоры аренды, сведения об урожаях, переписка с поставщиками. Но в нижнем ящике стола он обнаружил папку с надписью «Земство».
Внутри оказались проекты, сметы, протоколы заседаний. Алексей пробежал глазами документы – стандартная бюрократическая писанина. Но под ними он нашел тетрадь в кожаном переплете.
Это был личный дневник отца.
Алексей помедлил, чувствуя некоторую неловкость. Затем решительно открыл тетрадь. Первая запись датировалась 1869 годом – годом основания земства в их уезде.
«Сегодня великий день! Мы наконец-то получили возможность самим решать нашу судьбу…»
Алексей перелистывал страницы, следя за мыслями отца через годы. Михаил Андреевич писал о строительстве школ, больниц, дорог. О конфликтах с губернскими властями. О разочарованиях и победах.
«Земское дело – не для быстрых результатов. Это как посадка дуба: плоды увидят только твои дети, но без тебя дерево никогда не вырастет…»
К дневнику была приложена газетная вырезка – небольшая заметка из «Санкт-Петербургских ведомостей». Алексей с удивлением узнал свое имя в тексте: «…молодой перспективный юрист А.М. Нестеров блестяще выступил на дебатах, посвященных реформе местного самоуправления…»
Отец следил за его карьерой. Собирал заметки о нём. Гордился.
Последние записи были датированы незадолго до смерти:
«Боюсь, что не успею закончить начатое. Мост останется недостроенным, а с ним и всё остальное. Саввин действует всё наглее, открыто присваивая земские деньги. Я подал жалобу губернатору, но ответа нет. Если бы Алёша был здесь… с его юридическими знаниями и молодой энергией мы могли бы…»
Запись обрывалась. Алексей закрыл дневник, чувствуя непрошеный комок в горле. Он никогда не думал, что отец так на него надеялся.
В дверь тихо постучали.
– Алексей Михайлович, к Вам посетитель, – сообщил Тимофей. – Павел Ильич Сомов. Говорит, срочное дело.
– Сомов? – Алексей смутно припомнил это имя. – Кто это?
– Друг Вашего батюшки. Вместе в земстве работали, еще со старых времён.
– Проси в гостиную.
В гостиной Алексея ждал пожилой господин с окладистой седой бородой, одетый в старомодный, но безупречно чистый сюртук. На его лице играла доброжелательная улыбка.
– Алексей Михайлович! – воскликнул он, поднимаясь навстречу. – Как же Вы выросли, а я-то помню Вас вот таким, – он показал рукой рост ребенка.
– Павел Ильич? – Алексей пожал протянутую руку. – Простите, смутно вас помню.
– Неудивительно, батенька, – рассмеялся старик. – Последний раз мы виделись, когда Вас в гимназию отправляли. С тех пор утекло немало воды.
Они сели в кресла у камина. Тимофей принёс чай и пирожки.
– Я пришел выразить соболезнования, – начал Сомов. – Михаил Андреевич был не просто моим другом, но и соратником. Мы вместе начинали земское дело в уезде.
– Благодарю, – кивнул Алексей. – Отец, я вижу, был очень увлечен этими идеями.
– Увлечен? – переспросил Сомов с удивлением. – Нет, дорогой мой, это было гораздо больше, чем увлечение. Это было делом его жизни.
Старик отхлебнул чай и продолжил:
– Знаете, когда в 1864 году вышло Положение о земских учреждениях, многие восприняли это как формальность. Очередная бюрократическая реформа. Но не Михаил. Он сразу увидел в этом возможность реальных перемен. «Павел, – говорил он мне, – впервые мы можем сами решать свою судьбу, не ожидая милости от губернских властей».