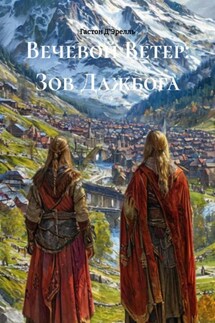Гроза над Волховом - страница 4
Подходы к городу были выжжены и опустошены. Все, что могло дать укрытие или материал для осады – срублено, сожжено, убрано. У самой кромки леса виднелись засеки – поваленные деревья, заостренные сучьями в сторону врага. Земля была изрыта неглубокими рвами и ямами.
Добрыня подошел к ближайшим воротам – не к главным Софийским, а к Малым Водяным, что ближе к Волхову. Узкий проход был завален телегами, бревнами, заставлен частоколом. Над воротами и по бокам на стенах стояли десятки стрелков. Лица у всех были напряженные, глаза бегали, вглядываясь в серую даль за рекой. Напряжение висело в воздухе, как натянутая тетива.
«Стой! Кто идет?!» – окрикнул его старший у ворот, седой, с лицом, изборожденным шрамами, воин в добротной, но потертой кольчуге. Его звали Гремислав, Добрыня узнал его – старый «костяк» городской стражи. За ним десяток ополченцев с рогатинами и топорами. Взгляды у всех были подозрительные, почти враждебные.
«Добрыня, сын Ратибора, огнищанин Неревского конца!» – крикнул Добрыня, стараясь вложить в голос силу, но получился лишь хриплый шепот. Он был покрыт грязью, кровью (своей и, увы, друзей), одежды изорваны, лицо землистое от усталости и страха. На нем не было ни плаща, ни шапки – все потеряно в бегстве. Только меч за поясом.
«Добрыня?» – Гремислав прищурился, подошел ближе. Его взгляд скользнул по изодранной одежде, задержался на странно скрюченной, прижатой к груди правой руке. «Слыхали, ты с дружиной на охоту ушел к Ильменю. А где други-то твои? И птица твоя княжева?»
Боль, вина и гнев подкатили к горлу. «Все… все там остались, Гремислав. У Ильменя. Нас атаковали…»
«Кто?» – резко спросил старый воин, его рука легла на рукоять меча. Ополченцы напряглись.
«Варяги. Но не простые… Корабль… черный, ледяной… Маг… Мертвецы…» – Добрыня пытался подобрать слова, но язык заплетался. Ужас пережитого накатывал снова. «Они… они идут сюда! Уже близко! Големы ледяные по дороге идут!»
В толпе ополченцев прошел шепоток. Кто-то перекрестился. Гремислав нахмурился.
«Варяги? С моря? Так они ж под Ладогой должны быть! Ты, парень, не струхнул ли чего в лесу? Галлю… глючишь?» – он не нашел нужного слова, но сомнение читалось в его главах. Слишком невероятно звучало.
Добрыня понял. Ему не верят. Он выглядел как помешанный, а его слова – как бред. Отчаяние придало ему силы. Он резко дернул рукав, скрывавший правую руку.
«Вот! Гляди!»
Знак Перуницы, все еще яркий, воспаленный, горел на его ладони. Две перекрещенные молнии вокруг круга. Священный знак Громовержца.
Тишина воцарилась мгновенная. Даже ветер словно затих. Глаза Гремислава расширились, наполнились суеверным ужасом. Ополченцы отшатнулись, как от прокаженного. Кто-то ахнул. Знак Перуна… на живом человеке. Это было невероятно. Страшно.
«Матерь Божья…» – прошептал старый воин, забыв на миг о новых богах. Он перевел взгляд с руки на лицо Добрыни, ища обмана, но нашел лишь боль, усталость и отчаянную правду. «Ладно. Пропустить его! Быстро!» – скомандовал он охранникам. «Ты – ко мне! К тысяцкому! Немедля!» Он повернулся к одному из ополченцев: «Беги к княжему двору! Скажи, Добрыня Ратиборович вернулся… со Знаком!»
Ворота с скрипом и лязгом раздвинули ровно настолько, чтобы мог пройти человек. Добрыню буквально втолкнули внутрь. Он очутился в Новгороде, и его охватила волна нового ужаса, смешанного с горечью.
Город был неузнаваем. Улицы, обычно шумные, полные торгашей, ремесленников, детей, теперь кишели людьми, но это была толпа загнанных зверей. Беженцы с севера – из Ладоги, с побережья, с погостов – сидели и лежали прямо на грязной земле, под стенами домов, в повозках. Их лица были изможденные, полные страха. Дети плакали тихо, уткнувшись в колени матерей. Старики безучастно смотрели в пустоту. Повсюду слышался кашель, стоны, плач. Воздух гудел от тревожного гула тысяч голосов, сливавшихся в один протяжный стон.