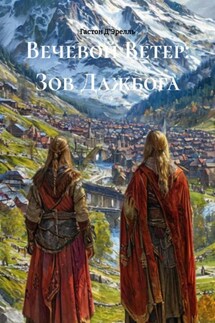Гроза над Волховом - страница 5
Пахло нечистотами, дымом и болезнью. На перекрестках горели костры, у которых грелись ополченцы и горожане; дым ел глаза. По улицам сновали вооруженные люди – городская стража, дружинники бояр, княжеские отроки. Их лица были суровы, взгляды бдительны. Повсюду висели приказы, написанные уставщиком на бересте и приколоченные к столбам: о сдаче оружия в арсенал, о явке на стены, о запрете паниковать и распускать слухи под страхом кары. Но паника витала в воздухе, осязаемая, как туман.
Гремислав вел Добрыню по знакомым, но чужим улицам, к Кремлю, к двору тысяцкого Ратибора. Люди расступались перед ними, но не из уважения. Их взгляды цеплялись за Добрыню – за его грязный вид, за скрюченную руку, за лицо, хранящее следы пережитого кошмара. Шепот следовал за ними по пятам: «С Ильменя… Говорят, вся дружина полегла…», «Варяги-колдуны…», «Гляди, руку прижал… не искалечен ли?», «Слышал, знак на нем… Перунов знак…».
Они миновали Вечевую площадь. Обычно это было сердце республики, место шумных, а то и кровавых споров. Сейчас площадь была забита до отказа. Но вече не шло. Это был митинг отчаяния. На ступенях гридницы стояли бояре в дорогих, но помятых шубах, поверх которых были накинуты кольчуги. Посадник Мирон, человек с умным, но сейчас предельно усталым лицом и седой, аккуратной бородкой, пытался что-то говорить, призывая к спокойствию. Его голос тонул в реве толпы.
«Предали нас! Бояре с варягами снюхались!»«Хлеба! Дайте хлеба!» «Детям есть нечего!» «Когда князь выгонит поганых?!» «Цены взлетели! Купцы грабят!» «Говорят, Ладога пала! Правда ли?!»
Крик последнего оратора – какого-то растрепанного смерда – вызвал особенно яростный рев. В толпе началась давка. Кто-то бросил гнилой капустный кочан в сторону бояр. Посадник Мирон побледнел, его охрана сомкнула щиты. В глазах посадника мелькнуло нечто большее, чем страх – что-то похожее на вину? Или Добрыне померещилось?
«Не до веча теперь, не до споров!» – рявкнул Гремислав, пробиваясь сквозь толпу у края площади. «Война у ворот! На стену всех, кто держать оружие может!»
Они вырвались на более свободную улицу, ведущую к Кремлю. Здесь стояли крепкие терема бояр и двор тысяцкого – не столько дом, сколько укрепленная усадьба с частоколом и сторожевой вышкой. У ворот, заваленных мешками с песком, стояли двое суровых дружинников в кольчугах и шишаках. Узнав Гремислава, пропустили.
Двор тысяцкого Ратибора кипел военной суетой. Кузнецы наспех чинили мечи и кольчуги. Оружейники раздавали ополченцам рогатины, топоры, луки из княжеских запасов. Конюхи водили оседланных коней. Сам Ратибор, огромный, бородатый, с лицом, красным от гнева и хмеля (хотя был день), стоял посреди двора и орал на какого-то подьячего, тыча толстым пальцем в свиток.
«Не хватает?! А где же складские запасы, а?! Бояре Мирона опять прячут, сукины дети! На свои палаты каменные копят, пока город под нож варяжский ложится!»
Он заметил Гремислава и Добрыню. Его маленькие, злые глазки сузились.
«Гремислав? Чего привел? Кто это?» – он окинул Добрыню презрительным взглядом. «Нищий какой?»
«Тысяцкий! Добрыня Ратиборович вернулся! С Ильменя!» – доложил Гремислав, стараясь перекрыть шум двора.
Ратибор нахмурился, подошел ближе. «Добрыня? Сын покойного Ратибора-храбреца? Ты? А дружина твоя?»
«Все полегли, тысяцкий», – глухо ответил Добрыня, глядя в землю. «Варяги… небывалые… Корабль ледяной… Маг страшный… Мертвецов поднял…»