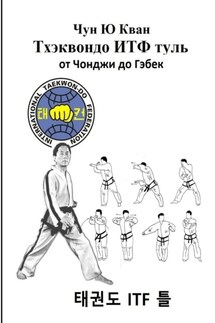Имя на обложке: Людмила - страница 4
Без папы.
Слёзы не текли. Голос не звал. Она просто сидела. Дышала коротко, часто. Куклу прижимала к груди, как будто могла спрятаться за неё от этой страшной новой жизни. И внутри – что-то сломалось. Что-то замолчало. Навсегда.
В день похорон не было солнца. Даже небо не хотело ничего говорить. Мелкий дождь впитывался в землю, как будто сама земля плакала за тех, кто не успел сказать последнее слово.
Толпа – родственники, знакомые, соседи – стояли плотно, в чёрном. Шептались. Кто-то жалел. Кто-то осуждал. Но все смотрели на Люду. А она – не плакала. Стояла, слегка отстранённая, сигарета зажатая в пальцах. На лице – тупая усталость и что-то похожее на нетерпение, как будто хотела, чтобы всё это поскорее закончилось.
Тоня стояла чуть в стороне. В пальто на размер больше, в вязаной шапке, которую связала бабушка. Рядом – никого. Она не держала чью-то руку. Не всхлипывала вслух. Просто стояла, глядя на гроб, в котором лежал её отец. Тот, кто клал её на плечи, когда ноги уставали. Тот, кто обещал мороженое.
Рядом бегала Галя – ей было три, и она не понимала, почему все грустные. Она дергала бабушку за подол, искала глазами маму.
А Тоня молчала. Молча прощалась, как могла. Внутри у неё был ледяной озёрный круг, в который провалилось всё – игры, сладкая вата, запах табака от папиной куртки. Навсегда.
Когда вернулись домой, бабушка сразу пошла в кухню – ставить чай. Люда – переодеваться. Похороны закончились, жизнь продолжалась. Если это можно назвать жизнью.
Через месяц после похорон Люда вытащила чёрный мусорный пакет. Начала собирать вещи Романа. Рубашки, носки, ремень, его любимый свитер. Бросала молча. Тоня вошла тихо. Встала в дверях.
– Мам…
– Что?
– Можно… можно одну рубашку оставить?
– Зачем? – резко.
– Я с ней спать буду. Она пахнет папой.
Люда вздохнула и щёлкнула замком пакета.
– Не глупи. Рубашки – не папа. Это всё барахло. От него толку нет.
Тоня не стала спорить. Просто отвернулась. Пошла в комнату. Села на кровать. И молчала.
Фотографии со стены исчезли на следующий день. Свадебную Люда оторвала сама. Где-то в глубине шкафа осталась только одна – с семейного пикника. На ней Роман держал Тоню на руках, Люда в кадре не улыбалась.Потом и эту фотографию Люда спрятала. Слишком напоминала прошлое.
Смерть для Люды не была болью. Она была неудобством. Бумагой. Пенсией по потере кормильца. Пустой вешалкой.
А для Тони смерть отца стала концом того единственного, кто в этом мире называл её "мышонком" и всегда возвращался домой.
Первый раз Люда вышла «в люди» через две недели после похорон. День был серый, как вата, мокрый, как нестиранное одеяло. Она долго крутилась у зеркала, поправляя волосы, выщипывая брови. Красила губы. Руки дрожали, помада ложилась неровно. Вытерла, провела снова. Красная. Сочная. Смелая.
Потом – лак на ногтях. Яркий, почти вульгарный. Серьги – те самые, что подарил Роман. Она долго смотрела на них в шкатулке, а потом надела.
«Ну и что. Мне что теперь, их выбросить?» – подумала. – «Он бы хотел, чтобы я жила. Я не умерла. Я молода. Мне двадцать семь. Хватит ныть. Плакать – не моё».
Пальто – красное. Каблуки – старые, но звонкие. Она щёлкала ими по асфальту, будто шла не в пыльный подъезд, а на подиум.
Вернулась Люда за полночь. Ключ в замке дребезжал. Открыла – и сразу ударил запах: сигареты, мужской лосьон, алкоголь, что-то дешёвое и сладкое.