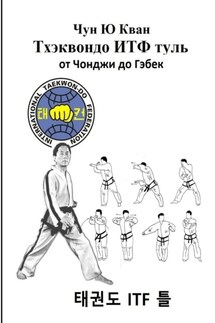Имя на обложке: Людмила - страница 5
На куртке – чужая рукава. На лице – удовлетворённая растерянность. Смех сам собой сорвался с губ, но внутри гудело – как от громкой музыки в пустом зале.
На кухне горела лампочка. Инна не спала. Она не сказала ни слова. Только посмотрела. Долго. Молча. Люда ответила взглядом. В её глазах вызов, но и усталость.
– Всё нормально, мам. Не смотри так. Мне просто надо было… выдохнуть.
Инна ничего не ответила. Только отвернулась.
Утром – в доме впервые громко играло радио. Весёлая песня про лето, солнце, любовь. Словно кто-то включил не ту жизнь. Тоня проснулась от музыки. Села в кроватке. Поджала ноги. Обняла подушку. Смотрела в стену. Ей было страшно.
"Почему мама смеётся?
Почему музыка?
Папа же умер.
А мама смеётся."
С тех пор музыка играла всё чаще. А мама – всё реже бывала дома. Сначала уходила днём. Потом – на ночь. Потом – на два дня. Одежда стала короче. Каблуки – выше. Макияж – ярче.
Тоня перестала задавать вопросы. Она всё понимала.
А Инна просто стала готовить на трёх человек вместо четырёх. Папина тарелка больше не стояла на столе. Мамина – тоже.
Смерть Романа не ударила по Люде, как молния. Она обошла стороной. Как будто Люда не была частью всей этой трагедии. Роман был хорошим. Да. Спокойным, добрым. Он любил её, возился с дочками, носил хлеб и цветы. Но он был… прошлым. А Люда смотрела на себя в зеркало и думала:
«Я живая. Красивая. С пышной грудью, с глазами, в которые смотрят. Мне хочется жить. Хочется, чтобы смотрели, звали, целовали, дарили что-то – пусть даже не серьёзно. Я что – уже старая, списанная? На меня теперь клеймо – вдова? Почему? Я не просила. Он умер. Ну… умер. Жалко, конечно. Но все умирают. А я осталась. С двумя детьми, с матерью, с грязной посудой и тишиной. Да пошли вы все. Я ещё поживу.»
Люда не носила траура. Сначала – потому что не верила. Первые дни она будто была в тумане. Ходила по дому, как гостья. Не плакала. Не говорила о нём. Не целовала фотографии. Просто… ничего. Пусто. А потом – стало всё равно. Тело ничего не чувствовало. Душа – молчала. И Люда поняла: она не чувствует горя. Она чувствует пустоту.
А с пустотой Люда умела обращаться.
С детства – когда папы не было, когда мама смотрела сквозь неё, когда девочки в школе дразнили. С тех пор Люда знала: пустоту можно заполнять.
Чем угодно:
● Мужчиной.
● Вечеринкой.
● Сигаретой на лавке.
● Смехом – громким, надрывным, фальшивым.
● Бокалом дешёвого вина.
● Танцем, где руки чужого мужчины обхватывают талию так, будто ты снова существуешь.
"Плакать – не моё.
Я не из тех.
Я лучше пойду, накраслю губы и станцую.
Пусть хоть кто-то скажет, что я ещё ого-го."
И с этого момента – её горе не стало проживанием. Оно стало отрицанием. Отрицанием, которое, как ржавчина, расползлось по всему, что в ней было живого.
"Папа ушёл. И мама ушла. Только теперь – она не умерла. Она просто… не здесь. Она где-то в другой комнате, где звучит музыка, пахнет чужим парфюмом и разлитым пивом. Где она смеётся громко, не по-настоящему. Где я – не нужна."
"Она не смотрит на меня. Она смотрит сквозь меня. Раньше пахла хлебом и духами. Теперь – вином, сигаретами, чем-то чужим. Она стала… не мамой. Она стала чужой."
"А мне – пять. И мне очень страшно."
Тоня спала плохо. Всё чаще просыпалась среди ночи. Дом казался тёмным и пустым, как если бы в нём вообще никто не жил. Однажды – где-то ближе к полуночи – она услышала