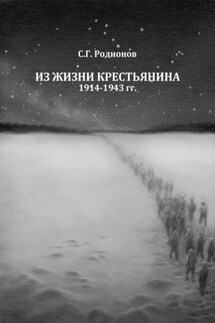Читать онлайн Сергей Георгиевич - Из жизни крестьянина. 1914-1943 гг.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Автор, Родионов Сергей Георгиевич (1907–1980 гг.), родился в крестьянской многодетной семье, потомок переселенцев. В 1844 г. Родионов Павел Антонович, предположительно из-под Калуги, приехал в д. Хохлы, теперь Курганской области Шумихинского района. Кузьма Павлович, дедушка мальчика Серёжи, научил его читать, т. к. в школу тот не ходил. Учился читать он на Евангелие, позже читал письма по просьбе односельчан, ещё позже – газеты. Главной особенностью автора, на мой взгляд, является то, что язык он постигал, в основном, устный. Школьных книг, художественных книг он не читал. Этим объясняется безграмотность предложенного читателю текста. При наборе текста выполняли редактирование минимальным образом. Расставили знаки препинания, которых в оригинале нет совсем. Весь текст набран так (орфография), как он написан автором. Правка орфографии выполнена только в тех случаях, если она не изменяет звучание. Исправлены окончания, исправлено написание суффиксов (например, два «н» вместо одного в прилагательном и пр.). Но даже окончания не исправлены в тех случаях, когда «авторское окончание» редактору показалось интересным. Во всех случаях оставлены без правки несогласованные падежи, несогласованные множественное и единственное число существительного и глагола. Потому что это не ошибка в тексте, а так автор рассказывает.
Зачем это сделано. Чтобы оставить максимальное количество информации об авторе, о времени, об устной речи. Автор, мой отец, многие эпизоды, почти все, рассказывал нам, детям. Почти всё это мы слышали раньше. Но в рукописном тексте мы с удивлением обнаружили «ишли» вместо «шли». Но интересно, что в устной речи мы этого не слышали, не замечали, что он произносит «ишли». Точно так же у автора в тексте везде «но» вместо ожидаемого «ну», в устной речи эта замена также не слышна.
Вот некоторые слова, как их писал автор, наиболее частые или занимательные: тубаретки, отрода (отроду), сли́пит (сле́пит, лепить), пóльты, кошок (кошек), желел (жалел), чигун (чугун), замешона, гувнами, табунами птиц, яйц (яиц), заяца (зайца), зайцов, с обоих сторон, стареньку (старенькую), хочем, оне (они), можеть, осердился.
Выражаем благодарность за содействие в издании Татьяне Ильиничне Абрамовой, Ирине Георгиевне Перовой, Ольге Борисовне Мезенцевой.
Родионов С. С.
Родионов С.Г. пишет свою книгу
КНИГА 1
ЖИЗНЬ В ДЕТСТВЕ1
Вот сегодня мне 60 лет2. Я всё ещё благодарю своих родителей, хотя их давно уже нет в живых, за то, что они дали мне жизнь и сохранили мне здоровье.
И сохранилось в моей памяти с возраста семи лет. Вот я попробую описать с 1914 года всё, что я пережил вместе со своей семьёй и товарищами. И только факты, правду.
В семье отца, матери, трёх, а потом четырёх братьев и одной сестры, в деревянной избе размером три с половиной метра на четыре метра – три маленьких окна и русская печь, божница3 в углу с иконами и никакой мебели, кроме стола, скамейки, и две тубаретки. Были сенцы из самана четыре на четыре метра. Там стояла деревянная кровать и вся одежда и постель была в сенцах, и там же на пол ставили самовар, кипятили чай. Зимой кран самовара обёртывали тряпкой, чтобы не замёрз. А вечером приносили всю постель из сеней в избу. Стол ставили в куть, и стелили постель от порога до переднего угла.
Но спать нам неохота. Мы усаживались вокруг стола и лепили из бумаги разные баночки (круглые) сделанным клейстером из ржаной муки: кто лучше слипит. А утром мать нас будила: старших двух братьев. Мы ей помогали, что она, всё делали: стряпали шаньги сметанные, картовные4, сырные, конопляные, из кулаги, из маку стряпали. Блины мы с братом тоже стряпали по очереди.
А маме трудно всех досыта накормить. Правда, мы досыта не ели, а установили норму 12 блинов: взяли пример со старшего брата. А нам не хватало. А младше меня, брат Фёдор, помногу ел. Так вот, он сначала ест лепёшки, рассчитывает на 12 блинов. Начнёт есть, съест 12 блинов и опять ест лепёшки. А облизывать чашки, миски из-под картошки и другие: то была установлена очередь, кому сегодня облизывать.
А рядом с нами жил богатый мужик Рубцов К. А. У него было две дочери и два сына. Один из них – мне ровесник. Я часто у них бывал, все видел, что они делают, что кушают. А по другую сторону жил бедный, Володя, кузнец. У него была кузница в огороде. Я тоже часто был у него в кузнице и видел, как он работает и как кушает. И думал, почему этот кузнец так много работает, а кушает плохо, а богач мало работает, а кушает хорошо.
Как-то мать, старушка Марья, забежала к нам второпях, спросила мать: «Дарьюшка, пусть ребята насморкают мне вот в эту тряпочку. Стюрка сожгла руку, надо помазать скорее». А мать, шутя: «Ты почему к нам? А вон ишла бы к Евленье, у неё тоже пять девок». А Марья: «Там дольше, а мне надо, чтобы были тёплые». А брат Иосиф: «Бабушка, ты возьми нашего Федьку, пусть он у вас поживёт, и вам, когда надо, сколько надо, у него хватит». Ох, наш Федька осердился: «Никуда я не пойду!»
А отец наш работал стрелочником на ж. д. разъезде, а жил в Хохлах, и ходил пешком на разъезд 3,5 км. Получал 21 р. и 3 руб. квартирных. Среди зимы мы с братом ездили на лошади за ним на разъезд, заходили в дежурную и там возле печки сидели. Там сидел человек и всё что-то читал на бумажной ленте, и что-то трещало, а потом он говорит своим стрелочникам: «Идите». Они встают и идут в свои будки: это метров 400. И мы идём со своим отцом. Мороз, столбы гудят, ветер воет, но отец открывает семафор, переводит стрелку и поезд проходит. Отец переводит опять стрелку, и мы опять идём к дежурному в разъезд. Так за смену, 12 час, бывает от 10 до 14 раз, а потом отец сдал дежурство, мы все трое едем в Хохлы.
Надоело ходить отцу, он решил сложить из пластов (дёрна) избу себе на отчуждение ж. д. Не прожил года, и – столб телеграфный ставят прямо в барак. И мы уехали опять в Хохлы жить.
Однажды отец говорит: «Вот что, сыны! Вас четверо, большаку 10 лет отрода, а у нас одна лошадь. Что вам дома делать? Ты, Серёжа, иди к дедушке Кузьме, живи у него, помогай ему работать по хозяйству».
В это время крестьяне жили спокойно, оне не чувствовали, что идёт война. Один в деревне держал пчёл, жил с ними всё лето в поле. Один в деревне имел у себя сад: рябина, черёмуха, сирень. Все сеяли пшеницу, рожь, овёс, лён. Осенью убирали, молотили, мяли лён. Это самая большая работа, ведь каждый старался, как лучше накормить людей, которые у него молотят хлеб или мнут лён. Вот и готовили до 30 разных блюд в один день. А всего могли готовить до 105 блюд и почти из своего: капуста, морковь, брюква, ягоды всякие, сусло, кулага, пироги, шаньги, каши, парёнки.5
А осенью начинают ездить по деревне, продают рамы к окнам и сами стеклили окна. Ходили пешие. Собирали, покупали свиную щетину. Ходили коновалы, вылаживали6 скот. Приезжали из России7 люди, специалисты. Выделывали овчинные кожи. Шили шубы, пóльты (саки), катали валенки (пимы). Ходили по домам. А весной продавали белую глину, точили ножи, пилы. Продавали ситец, платки. Да ещё собирали кошок, собак, ездили по деревне. За это платили глиняной посудой и деньгами.
А тут приехали беженцы из Гродно и привезли с собой пилы поперечные и продольные. И стали наниматься пилить дрова и тёс (доски) и в 1-е начали гнать дёготь из берёзового корья, чтобы мазать колеса телеги.
Я ушёл жить к деду и бабе. Дед желел меня, но в школу не отдал, сказал «Я буду тебя учить дома сам». Так и сделал. Купил мне букварь, и я за две недели прочитал букварь с начала до конца, а за зиму научился писать буквы и слога. А читал я уже хорошо, и бабушка стала меня заставлять читать «Евангель» для её и других женщин, а за это давали мне 2–3 копейки. И учили меня читать молитвы, и за это тоже бабушка платила. И я так привык, и полюбил читать молитвы. Когда ездил верхом на лошади, боронил и читал молитвы. И перед сном молился и крестил свою постель и воздух против себя. А одну молитву я прочитывал тридевять раз в день и был убеждён, что в этот день со мной ничего не случится. А когда об этом узнали мои братья, стали смеяться надо мной и припугнули: если скажешь бабушке или маме, набьём8. И я первый раз в своей жизни почувствовал, что жизнь моя зависит не только от самого себя, а и от посторонних. И что мне делать? Молиться охота, – смеются, обидно. Сказать маме боюсь.
А тут люди ходят по домам и продают картины про войну с Германией. Вижу, три страшные головы разинули рты и хотят проглотить Россию, а наши солдаты штыками их колят. А вторая картина: наши солдаты штурмуют, берут город Перемышль.
А вечером бабушка просит написать письмо тёте. Её муж на фронте. И я под их диктовку написал. А через несколько дней ко мне стали ходить, просить написать письмо. И я писал. За это получал по 2–5 копеек.
И так продолжалась моя жизнь. Летом работал с дедушкой в поле: боронил, пахал, сено возил. А зимой скотину кормил, чистил в пригоне, навоз убирал, снег в огороде.
Как-то раз приходит отец с дежурства и тихо говорит: «Царя сбросили, но пока об этом молчите».
А осенью 1917 года умер мой дед Кузьма. Он ездил на мельницу, на водянку, на реку Миасс. Приехал, у него открылся понос, и 4 дня поболел и умер. И отец со своей семьёй пришёл жить в дом своего отца. К нам с бабушкой Анной Савельевной. У нас стала большая семья: 8 человек. Мы стали заниматься с/хозяйством. Сеяли по 5 десятин. 2 лошади, а плуга нет.
Тут отца послали работать в Свердловск, как железнодорожника. Мы – с матерью и бабушкой. Мне стало плохо. Вечером начну молиться богу, а братья смеются надо мной. Мать их бьет, ругает. Оне замолчат. Я опять начинаю и смотрю на них, оне дразнят меня. Сколько не мучился я, всё-таки бросил молиться и читать евангель не стал. Много стало грамотных.
В этом году отец продал землю (пашню). У нас её было 18 десятин. Скопили денег и решили строить новый дом. Без отца продала мама одну лошадь за 47000 рублей колчаковскими деньгами. И гусей продавали по 250 р. за штуку. В это время ещё ходили деньги Керенские по 20, 30, 40 рублей. Оне были целые листы неразрезные, но их уже никто не хотел брать.
А тут на ст. Шумиху приехали солдаты, чехи, которыми командовал в то время Колчак. И начали всех большевиков арестовывать и кое-которых расстреляли. У нас из Хохлов взяли двоих: Махова Фёдора и Смолина Андрея и расстреляли, а всех дезертиров из армии Колчака ловили и драли розгами на сходке. Вот я помню, у нас драли Евстигнеева Ефима, Леонова Кузьму, Евстигнеева Егора.
В то время не было в деревне молодых мужчин. Оне все жили в лесах, в болотах, но мама наняла двух пожилых мужчин, и начали строить нам дом.
А Колчак объявил мобилизацию: 1901 года взяли в армию. Помню, как чехи арестовали Дементьева Александра Максимовича. Оне его расстреляли бы, но здешний поп и ещё один был, лавочник Микола (подойник9), вот оне растолковали чехам, что это не тот, а только однофамилец, и его отпустили.
А в деревне всё ещё кое-кто гонит самогон у себя дома, на своих заводах, который сами делали. Большой чигун. На чугун опрокидывают корчагу глиняную, примазывают её к чигуну глиной. В боку корчаги – дыра. В эту дыру вставляют от старого ружья ствол, а вокруг ствола ящик с водой холодной. И вот налитою гуща из муки, замешона с хмелем и дрожжами. Она нагревается, и пар от неё поступает в корчагу и в ствол, а в стволе охлаждается и получается жидкость, т. е. самогон (вино). Оно бывает до 60º крепости. Так вот, за этим самогоном приезжали из г. Кургана на поездах и покупали самогон и наливали в четверти, это 3-х литровая бутыль, и завёртывали в сукно, тряпки и увозили в города.