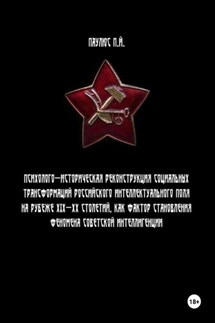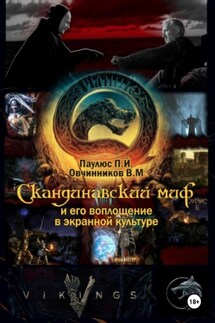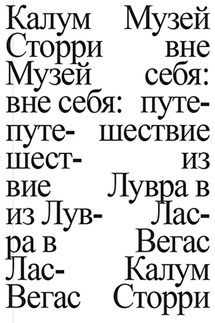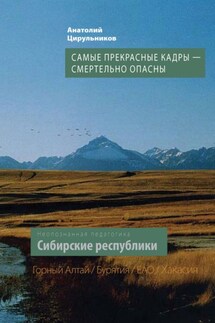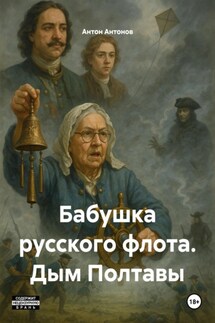Психолого-историческая реконструкция социальных трансформаций российского интеллектуального поля на рубеже XIX-XX столетий как фактор становления феномена советской интеллигенции. - страница 3
Важную роль в понимании особенностей становления нового социокультурного и психологического ландшафта играл территориальный фактор, демонстрирующий наряду с политикой русификации окраинных территорий империи появление некоторых элементов мультикультурализма, соотносящихся с продолжающей применяться еще с эпохи правления Николая I теорией официальной народности. Обладая значительными пространствами, которые в культурном и ментально-психологическом плане являют собой широкое поле социального взаимодействия и взаимопроникновения, Россия, формируя основы собственной национальной политики в рамках синтеза разнообразных форм стратификации, обладала самобытным социопсихологическим ландшафтом, основанном на доминировании «великорусской народности».
Представленные явления и процессы, помещенные в пространство полномасштабной трансформации культурной и политической жизни, наглядно демонстрируют общую социокультурную и ментальную трансформацию российской ментальности. Увеличение влияния сциентизма вследствие бурного роста промышленности и дальнейшего развития системы российского образования становится фактором отказа от традиционализма, происходящего на фоне появления первых признаков кризиса позитивизма, что не было катастрофой и не означало, что «объективное бытие утрачивает свой статус», но было сопряжено с необходимостью открытия новых его сторон, «в которых нет места разрыву с бытием человека»33.
Одним из факторов становления культурной традиции ХХ столетия является кризис религиозного сознания. «Интеллектуальная элита, разочарованная бессилием учений позднего периода народничества, вела поиск новой всеобъемлющей системы воззрений и обоснований»34.
Серьезнейшим фактором дестабилизации была проблема взаимодействия разнообразных социальных групп. Среди упомянутого спектра проблем особым образом выделяется так называемый «рабочий вопрос», связанный со становлением в рамках по сути сословного российского общества такого социального объединения, как пролетариат. Без сомнения, важнейшей ментальной трансформацией пореформенного периода стало оформление слоя «свободных сельских обывателей», который продемонстрировал невероятную для того периода степень экономической и социальной активности, что находит выражение, с одной стороны, в создании целого ряда «торговых домов» и активизации социальной и духовной жизни городов, пополняемых наиболее активными представителями низшего сословия, стремившимися к реализации своих амбиций. В полной мере этот процесс не могли, да и не пытались оставить контрреформы Александра III, породив при этом целый ряд противоречий.
Рабочее движение, повлиявшее уже в начале века на течение очередной ментальной революции – пролетарской, в реалиях стремительно модернизирующейся России имело очевидную специфику, связанную с сохранением значительной патерналистской тенденции в комплексе производственных отношений, что связано с заменой формальных, основанных на контракте и правовых нормах взаимодействий, на неформальные, личные. Ключевой момент в патерналистских отношениях – зависимость рабочего от заводовладельца, предпринимателя. Эта зависимость определяла характерные черты рабочего-патерналиста, который делегировал предпринимателю ответственность за определение и реализацию своей жизненной стратегии35.
На фоне целой серии намечавшихся глобальных изменений российская интеллигенция, стремясь к сохранению и преобразованию ранее существовавших перцептивных и когнитивных эталонов, в полной мере не приняв идею изменения системы доминирующих в больших социальных группах мотивов, детерминированных существующей иерархией ценностей, оказалась фактически вне вновь конструируемой системы социальны связей, что впоследствии и определило необходимость формирования новой «пролетарской интеллигенции», ассимилировавшей «старую» (пребывавшую в большинстве своем в статусе лишенцев). В рамках же рассматриваемого нами периода мы можем наблюдать определенную долю онтологичности всех ранее описываемых процессов ввиду исключительной идеологической ангажируемости проблемы.