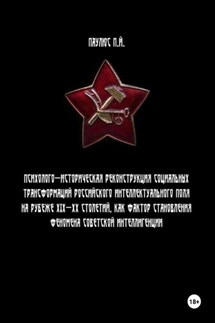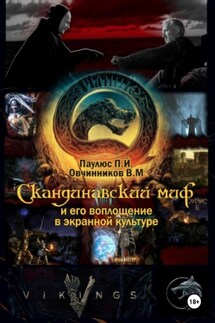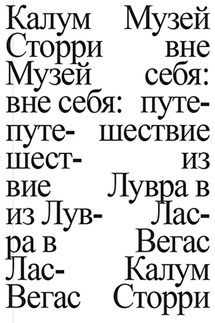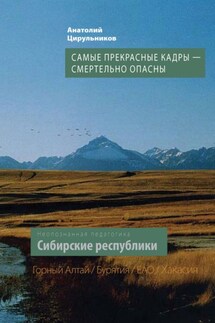Психолого-историческая реконструкция социальных трансформаций российского интеллектуального поля на рубеже XIX-XX столетий как фактор становления феномена советской интеллигенции. - страница 5
Возрастающее внимание к личности, сочетаемое с демонстративным отказом от традиционного морализма, изначально утвердившееся в «творческой среде», традиционно тяготевшей к свободе нравов, начинает распространяться в рамках урбанизированной части российского общества, освобождая критически мыслящего человека от иллюзии всеохватывающего детерминизма, в то время как претензии на безусловную истину приобрели исключительную актуальность.
Националистическая тенденция, характерная для официальной культуры, дополняемая «воинственным» традиционализмом большинства населения империи, сталкивается со столь популярной идеей многообразия практического и духовного опыта, их антагонистичности, позволяющей, однако сосуществовать в рамках единого культурно-психологического пространства.
В условиях подобного дуализма можно обнаружить определенные элементы культурного обмена в рамках одного полиэтнического государства, открыв при этом новые возможности для интеграции революционных идей в общекультурную парадигму, внедряясь в тот мощный информационный поток, который, по словам А. Блока, «несет на себе драгоценную ношу национальной культуры».
Весьма часто в рамках поисков иррационального начала, как обновленного и возвышенного, выходящего за пределы официозной триады, русская идея принимала формы литературных, художественных и философских откровений, которые, в полной мере создавая фаталистическую атмосферу, воздействовали лишь на наиболее экзальтированную часть интеллектуальной элиты, в то время как основная масса создавала новую мифологию и фольклор, как основы мироощущения «человека массы», опираясь на социалистическую утопию.
Нельзя не обратить внимание на особенности политического развития государства, представляющего собой пример классической «бюрократической империи», как именует соответствующую модель П. Абрамс, демонстрируя ее как сбалансированную структуру, сочетающую в себе сохранившиеся патримониальные интересы и бюрократизацию38, однако если соответствующая модель, базовые механизмы которой прослеживаются в Османской империи и Австро-Венгрии, были инновационной на заре эпохи нового времени, то к началу XX столетия она была деструктивна по своей природе и в целом весьма неэффективна. Весьма отчетливо это демонстрирует в своем труде У. Мак-Нил39. Фактическое выражение в рамках социокультурного ландшафта империи соответствующая практика находит в сохранении многочисленных ментальных барьеров между основными группами населения, выделяемыми по сословному, экономическому, религиозному и иным признакам. Несмотря на это присутствует целый ряд трансформаций психосоциального характера, находящих отражение и в «зеркале российской литературе» в виде знаменитого антагонизма отцов и детей, который противопоставляет сохранявшиеся в российском обществе имперсональности40 традиции неогуманизма, которые, однако, потерпят крах в рамках формирования усредненного общества потребления. По точному выражение В. Розанова, социально-политическая структура России даже в пореформенный период может быть сведена к своеобразной максиме «Человек человеку бревно»41.
Общая социокультурная фрагментарность определяла оформления феномена «ментальной фрагментарности», что было, по нашему мнению, одним из ключевых факторов формирования российского нигилизма как формы «отрицания отрицания». «Стремление не просто к эстетическому оформлению бытия, а к переустройству общества и мира с помощью художественной деятельности является одной из магистральных линий духовной жизни России начала XX века»