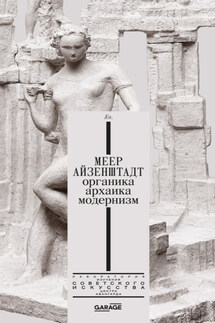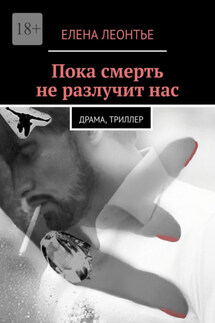Сюрреализм в стране большевиков - страница 2
К. Редько. Эскиз композиции из цикла «Электроорганизм». 1923. Бумага, акварель, белила. Российский государственный архив литературы и искусства
Однако всё это единичные, разрозненные, хотя и показательные примеры, не складывающиеся в тенденцию. Сами названные художники вряд ли ассоциировали себя с сюрреализмом, подобная трактовка их творчества – факт современной интерпретации. Вместе с тем в русском искусстве 1920–1930-х годов существует зона, действительно граничащая с сюрреализмом. Я говорю о «круге Малевича». Здесь сюрреализмом интересовались специально и серьезно, он нередко становился предметом разговоров, а то и споров с учителем. Малевич жестко разводил супрематизм и сюрреализм – как формовое, беспредметное и «психическое», образное. Но наличия самих сюрреалистических ощущений не отрицал, говоря, что может выразить их «супрематическими живописными средствами»[5]. «Сюрреалистический сюжет» возникал даже в процессе занятий с учениками: «Мы начинаем говорить о сюрреалистических ощущениях и их контрастах. В кубизме только контраст форм, а в сюрреализме – контраст ощущений. Раньше мы работали с вами на контрастах образов (рыба, пружина), теперь мы будем работать на контрастах ощущений. Ощущения от кометы и аэроплана совершенно разные»[6]. Сам Малевич был более склонен к метафизикам: близость работ «второго крестьянского цикла» к произведениям де Кирико не однажды отмечалась исследователями. Однако некоторые из поздних картин художника (например, «Три девушки», ГРМ) обнаруживают связь и с собственно сюрреализмом. Н. И. Харджиев даже считал, что весь «последний этап эволюции Малевича <…> правильней назвать сюрреалистическим. <…> В начале 30-х годов Малевич мне сказал, что „в настоящее время примкнул бы к сюрреалистам“»[7].
Из учеников Малевича более других сюрреализмом был заинтересован Л. А. Юдин, испытывавший потребность выразить «всю непостижимую странность самых обычных вещей»[8]. Он видел здесь «близкое, родное»[9], и можно сказать, что живопись художника в начале-середине 1930-х годов эволюционирует к сюрреализму (мотивы, проблематика, пластика). Дневники Юдина конца 1920–1930-х дают материал, как кажется, уникальный: здесь часты упоминания и самого явления, и существовавших в его орбите западных мастеров (Макс Эрнст, Хуан Миро, Пауль Клее, Андре Массон, Жан Гюго). Благодаря французским журналам художник проявляет изрядную осведомленность: свободно ориентируется в их творчестве, знает последние произведения и выставки.
Л. Юдин. 4-я страница обложки журнала «Чиж», № 11, 1933
Сюрреалистические черты заметны в рисунках Юдина 1920-х годов: плавные формы «Женщин»[10] подобны водорослям, таят в себе загадку, струятся, стекают по поверхности, переплетаясь друг с другом; в «Груше» (1926, ГРМ) формальное отступает перед «психическим», и узнаваемые очертания обретают странноватый вид, превращаясь то ли в сокращающийся, телесный орган, то ли в потертый кожаный мешок… Сюрреалистические умонастроения очевидны в картинах 1930-х: иррациональные интонации; предметная форма как одушевленная, текучая субстанция; «чувственность», «податливость», тревожность пластических элементов; бытовые вещи, превращенные в символические объекты. «Кофейник, кувшин и сахарница» (середина 1930-х, ГРМ) – «непосильная чистота»