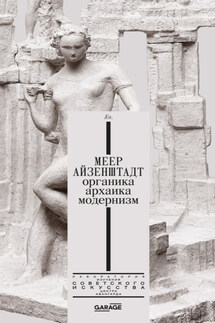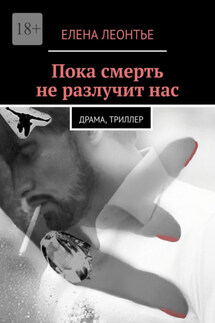Сюрреализм в стране большевиков - страница 3
С поэтикой сюрреализма можно связать замечательную серию бумажных скульптур, дошедших до нас в фотографиях[12]: эфемерность и «чудесность» легких конструкций-фантомов, маргинальность использованного материала, способ обработки хрупких элементов (клочки, обрывки, комки, скрутки, складки), вызывающий в памяти сюрреалистический автоматизм, ведь исходным импульсом такой скульптуры могли быть немотивированные, спонтанные действия человека, у которого занята голова, но свободны руки, который машинально мнет, рвет, сворачивает случайно попавшуюся на глаза бумагу. Определенная родственность есть уже в самом – фотографическом – принципе репрезентации. Можно сказать, что фигурки создавались, чтобы быть сфотографированными, это входило в замысел, являлось самостоятельной задачей, а эффекты, получавшиеся при воспроизведении (тени, ракурсы, неопределенность масштабов) и сама магия фотоотпечатка на равных входили в состав образа.
Л. Юдин. Колонна № 1. 1930-е. Бумага, фотография. Русский музей, Санкт-Петербург
В этот контекст следует включить и биоморфную абстракцию декоративно-прикладных миниатюрных работ[13], которые находят пластические аналогии в творчестве Арпа или Миро. И даже детскую иллюстрацию, такую как спинка обложки для журнала «Чиж»[14]: «отклоняющееся поведение» фигур, которые ломают установленный композиционный и ритмический порядок; рассеченные пополам, кажущиеся аномальными предметы; волнующее сочетание условности и иллюзорности (тела и тени, изображения и знака, бытия и небытия). Здесь наблюдается определенное совпадение с «Алфавитом откровений» Магритта (1929).
Все это можно было бы счесть сегодняшней экстраполяцией, если бы сам Юдин не видел нечто «сюрреалистическое» в собственном творчестве, мироощущении и даже природе своего дара. «Сюда можно вложить и остроту, и теплоту и особую щемящую странность – всё то, что лежит во мне от сюрреализма, от Шагала, от Эрнста», – писал он, думая над одним из своих замыслов[15] (здесь и далее выделено мной – И. К). В мае 1929 года он так определял свою творческую стратегию: «Пожалуй, в основе – мои „Женщины“ и сюрреализм. Переплести эти два ощущения или разделить?»[16] Момент идентификации с сюрреализмом различим и в другом фрагменте: «Смотрел Энгра. Потрясающее впечатление. Это то, что мне нужно. Такая же законченная линейная система, с ясным методом, с полным спокойствием реализуемая, но с мятежным и тревожным духом сюрреалистов. Ах, эта проклятая „непостижимая странность“