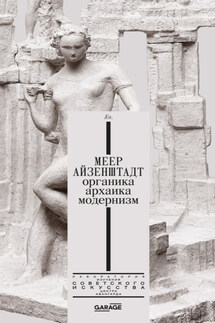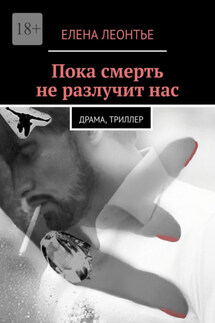Сюрреализм в стране большевиков - страница 4
»[17].
Дополнительные краски придают рассматриваемому «сюрреалистическому сюжету» факты из не известного ранее письма Юдина Константину Рождественскому от 9 августа 1936 года[18]. Оказывается, мимо внимания Юдина не прошла важнейшая акция движения – «Сюрреалистическая выставка объектов», о которой он узнал из специального номера любимого журнала Cahiers d’Art. Пополняется список имен: кроме упомянутых в дневниках, появляются Марсель Дюшан, Ман Рэй, Сальвадор Дали (ключевые!), Александр Кальдер. Юдинские суждения свидетельствуют не о скользящем восприятии, а об углублении в проблематику, о понимании задач и целей: он пишет о созданных моделях и выставленных реальных вещах как носителях сюрреалистического ощущения, отмечает, что «подбирают они [художники-сюрреалисты] себе элементы чрезвычайно точно». Оценивает причины того, что «носятся» с Дюшаном: «очевидно, много идей пошло от него». Совершенно справедливо выделяет Мана Рэя: «очень интересные фото (с моделей собственных)». Более того, прямо говорит о близости к ним своих фотографий, на которых запечатлены уже юдинские «собственные модели» – причудливые, странные бумажные скульптуры (колонны, мачты)[19]. «Увидишь и поразишься», – пишет он Рождественскому. Выше я уже говорила о родстве и самих этих объектов, и их «фотографической обусловленности» с поэтикой сюрреализма, однако то была все-таки гипотеза. И вот оно, документальное подтверждение, что дорогого стоит! Процесс фотографирования имел у Юдина творческий, а не фиксационный характер: тогда фигурки, по мнению самого Юдина, представали «объективизированными», осуществленными[20]. Отпечатки, как и у Мана Рэя, тоже были оригиналами[21]. Самое любопытное, что эта близость – следствие не заимствования, а параллельности в развитии, общности в направлении мыслей. Судя по всему, Юдин был удивлен подобным совпадением: он называет его «забавным» и радуется, что «опубликовал их [свои фотографии] до того, как в городе появился этот номер»[22].
Показательно, что тенденция еще в самом ее начале была замечена Малевичем и во время одной из бесед с учениками стала темой специального обсуждения[23]. «После этих чистых (беспредметных. – И. К.) ощущений появляется желание предмета – напр<имер> груши. Но это не груша, а очертания только. Чюрлянис видел тоже не предмет, а очертания, как верблюд в облаках – не верблюд. Груша претворяется, становится чем-то другого порядка <…>. Иногда из груши этой появляется причудливый психологизм – фантастического порядка». Это как раз и есть случай Юдина. «Юдин перешел в область литературно-фантастических ощущений», – констатирует Малевич и даже предлагает ему их «тематизировать», перевести из подтекста в текст. «Сейчас он пишет грушу, но лучше всего эти ощущения уложатся в человеческом лице, так как оно оказывается самым подходящим для передачи этих настроений. Юдин в лице, которое он будет писать, будет видеть как бы свое лицо. Это будут как бы портреты его видений <…>. Человек и лицо человеческое не может быть выражено ни динамично, ни статично. В последнем случае как бы спокойно его не поставить, он всегда будет мистичен»[24].
Еще более существенно, что идентификация с сюрреализмом не ограничивалась только сферой личного юдинского опыта. Этим термином он обозначил один из этапов общей эволюции того сообщества единомышленников, что сложилось к концу 1920-х годов. В него входили Вера Ермолаева, Константин Рождественский, Владимир Стерлигов и др. Этап этот, по словам Юдина, характеризовался желанием «осмыслить работу каким-то синтезом», поисками «корней в собственной личности», интересом к «эмоциональному, личному, индивидуальному» различным способам «разрушения внеличной формально понятой системы» – «некрасиво, грубо, бессмысленно и т. д.». И вывод: «сюрреализм как средство. Если бы его не было – должны бы были выдумать. <…> Он давал безграничную свободу и намечал новые выходы помимо супрематизма»