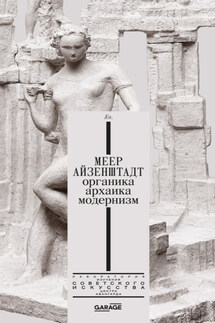Сюрреализм в стране большевиков - страница 6
Примечание[31]
А. Санчес. Эскиз грима к спектаклю «Чертов мост» Государственного камерного театра (деталь). 1930-е. Бумага, графитный карандаш, акварель, тушь, перо. Театральный музей им. А. А. Бахрушина
В советском искусстве действительно не было сюрреализма – того трезвого, но и радикально шутливого движения, иногда почти механистичной художественной науки, которая формулировала бы свои основания в манифестах и практики которой были бы основаны не на экспромте, а на том результате, что можно было получить в ходе просчитанного эксперимента вроде автоматического письма или игры в «изысканный труп»[32]. Того движения, в основе которого лежало представление о бессознательном – как о чем-то, что смещает и децентрирует субъекта с помощью разных, в том числе изобразительных, инструментов, обнаруживая его причинность по ту сторону «я», задавая вопросы о статусе взгляда, о нехватке, а также об ошибке и автоматизме как о способах получить доступ к тому, что присутствует, но недоступно непосредственно. В советском авангарде не было такого организованного движения, которое не занималось бы субъективным в смысле частного, личного, приватного, а задавало бы вопросы о месте единичного субъекта и его желания, претендовавшие при этом на универсальность: сюрреалистическая революция не была частным делом – она должна была быть следующим шагом или, вернее, единственно верным развитием революции социальной. Это может звучать слишком прямолинейно, но французский сюрреализм, скажем, в версии журнала La Révolution surréaliste занимался критикой буржуазной морали и гуманизма, христианского ханжества и, да, капитализма – и это была одна из самых последовательных его критик.
Для Вальтера Беньямина в 1929 году французские сюрреалисты были единственными, кто как следует понял «Коммунистический манифест». В своем тексте «Моментальный снимок нынешней европейской интеллигенции»[33] он пишет о «профанном освещении»: «Он [Бретон] называет „Надю“ „livre à porte battante“, „книгой с хлопающей дверью“. (В Москве я жил в гостинице, где почти все комнаты были заняты тибетскими ламами, приехавшими в Москву на конгресс объединенных буддийских церквей. Меня поразило, сколько дверей в коридорах здания было постоянно приоткрыто. То, что вначале показалось случайностью, стало для меня чем-то зловещим. Я узнал: в таких комнатах жили члены секты, торжественно поклявшиеся никогда не находиться в закрытых помещениях. Тот шок, который я испытал тогда, должен ощутить и читатель „Нади“.) Жить в стеклянном доме – вот революционная добродетель par excellence[34]. Это тоже некое опьянение, моральный эксгибиционизм, в котором мы очень нуждаемся». Итак, для Беньямина сюрреализм, которого не было в СССР, – это абсолютная прозрачность, залитая светом радикальная открытость, эксгибиционизм.
Тогда что значит утверждать, как это делают кураторы выставки Александра Селиванова и Надежда Плунгян, что сюрреализм в стране большевиков все же был?
Кураторское усилие в этой выставке – самое интересное: ее смысл не в том, чтобы доказать, что в советском контексте существовал аналог западного движения, хотя такая амбиция тут отчасти есть (но тогда легче было бы работать с кем-то, находящимся в прямой стилистической связи с западными сюрреалистами, вроде Казимира Малевича). Скорее это искусствоведческий конструктивизм высококлассного знаточеского толка, выхватывающий неочевидные объекты и не связанных друг с другом напрямую авторов и спрягающий их в неожиданный дискурс, который до сих пор никто не мог себе помыслить в таком виде. Деление выставки на тематические секции типа «Звери», «Бессознательное», «Другой» (другой не в психоаналитическом смысле, а в смысле «иного», жуткого или странного незнакомца), «Праздники» напоминает о стандартной тематической практике, с помощью которой структурируют выставки советского искусства последние пару десятков лет. Но вряд ли кто-то, кроме именно этих двух кураторов, смог бы придумать и собрать вместе конкретно эти объекты: в этом смысле выставка с ее сумрачным, кабинетно-театрализованным оформлением (Селиванова делала и экспозиционную архитектуру) не является «началом исследования», то есть не ведет от наброска к чему-то большему; она сама по себе – законченный, раньше не существовавший объект, в большей степени конструкция, чем документальное свидетельство ранее не учтенных практик, констелляция, кристаллизовавшаяся только в кураторском взгляде, – в этом ее лимиты, но и ее удача.