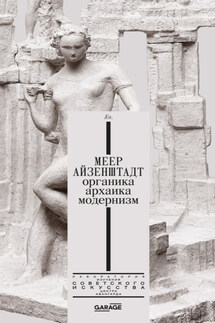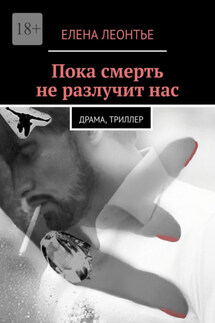Сюрреализм в стране большевиков - страница 5
И не только у него одного. Отзвуки сюрреалистического «психоза образов» в начале 1930-х в большей или меньшей степени можно обнаружить у друзей Юдина из «круга Малевича». Вера Ермолаева в «Мальчиках» и «Спортсменах» (1932–1934, ГРМ) оперирует неестественными пропорциями и словно приросшими к лицам слепыми масками. Николай Суетин в «Цеппелинах» (1932, частное собрание, СПб) представляет пустынные – «чужие», «иные» – ландшафты с зависшими над ними воздушными машинами, превращенными в странные и страшные объекты. Масштабные соотношения отличаются загадочной неопределенностью, а изображение рождается из сомнамбулических «странствий» карандаша по бумаге. Константин Рождественский в «Крестьянке со снопом» (1931, Музей Людвига, Кёльн) явно отягощает пластическую выразительность специфической мистикой: «отделенная голова», свободно плывущая в пронзительной синеве неба, воспринимается не как супрематическая форма, но как «символический предмет». В картине «Поле» (1930, галерея Гмуржинской, Кёльн) пейзаж, обращенный в магический ландшафт, в иллюзорно-отчетливый сновидческий образ, находящийся по ту сторону обычной действительности, словно пронизан токами того «духовного электричества», о котором говорил Андре Бретон. В «Равновесии» (1928, частное собрание, СПб) Владимира Стерлигова, относящемся еще к концу 1920-х годов, супрематизм встречается с сюрреалистическими импульсами: супрематические формы здесь странно безвольны, «мечтательны» и подчиняются не физическому, а духовному магнетизму, композиция расфокусирована, пространство, в отличие от «крестьянских картин» Малевича, связано не с внешним (Вселенная, Космос), а с внутренним миром (образы памяти, сна).
Увлечение сюрреализмом заметно и в творчестве художника Льва Лапина, соприкасавшегося с «кругом Малевича»[26]. Нельзя не вспомнить в этом контексте и об Иване Клюне, группа работ которого начала 1930-х[27] отмечена, по его собственным словам, переходом к «формам случайным, непосредственным, неясным»[28]. Прямые линии уступают здесь место извилистым, жесткие квадраты и треугольники вытесняются эмоционально «заряженными» фигурами сложной кривизны, а иногда и вовсе зыбкими, неправильными, мягкими, словно трепещущими, формами, пришедшими из сна или воображения.
Несколько позже, в 1940-х годах, значимый сюрреалистический эпизод случился в творчестве Александра Родченко. Многое в его тогдашней вспышке абстрактной живописи напрямую соотносится с этим художественным феноменом – криволинейные элементы, беспокойные, петляющие линии, обтекаемые формы, импровизационный, почерковый рисунок. Некоторые произведения даже бытовали с названием «Сюрреалистическая абстракция»[29].
Думаю, теперь позволительно утверждать, что сюрреалистическая компонента в конце 1920-х – 1930-х (и даже 1940-х) годах вполне различима в «составе» отечественного художественного сознания[30]. И не исключено, что при другом историческом сценарии именно движение «в сторону сюрреализма» оказалось бы одним из магистральных путей выхода из «чистой» беспредметности, одним из приоритетных вариантов дальнейшего развития.
Александра Новоженова.Уклонисты. Существовал ли в стране большевиков сюрреализм?