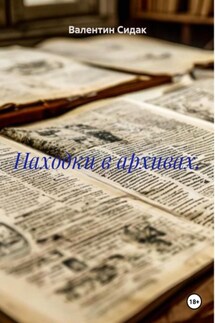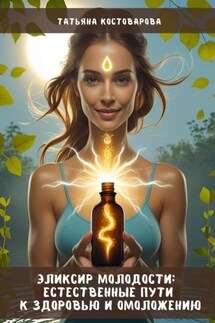Тугие узлы отечественной истории. Помощник В.А.Крючкова рассказывает… - страница 109
Видимо, именно в связи с этой запиской-поручением 29 мая 1925 года Дзержинскому была направлена справка с грифом «Совершенно секретно» за подписью Т.Д.Дерибаса и начальника 4-го отделения Секретного отдела ОГПУ Я.М.Генкина. В ней, в частности, говорилось: «По всему СССР сидят арестованными 34 сиониста, в том числе в Москве – 1, в Минске – 32 (!), в Ростове – 1. Вовнутрь СССР выслано всего 132 человека… За границу выслано и разрешен выезд взамен ссылки всего 152 чел. Что касается вопроса о разрешении замены ссылки выездом в Палестину, то по этому вопросу придерживаемся следующей тактики: наиболее активный элемент, члены ЦК, губкомов, у которых найдены серьезные материалы в виде антисоветских листовок, воззваний, типографий, в Палестину не выпускаем. Менее активный элемент в Палестину выпускается».
Под текстом справки имеется машинописная резолюция Дзержинского, датированная 31 мая 1925 года: «Все-таки, я думаю, столь широкие преследования сионистов (особенно в приграничных областях) не приносят нам пользы ни в Польше, ни в Америке. Мне кажется, необходимо повлиять на сионистов, чтобы они отказались от своей контрреволюционной р[аботы] по отношению к Советской власти. Ведь мы принципиально могли бы быть друзьями сионистов. Надо этот вопрос изучить и поставить в Политбюро. Сионисты имеют большое влияние и в Польше, и в Америке. Зачем их иметь себе врагами?».
Дзержинский требовал прекращения преследований и арестов сионистов, будучи убежденным в том, что цели, преследуемые сионистами в Палестине, приносят советскому государству больше пользы, чем вреда. (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 326. Лл. 1-4). Эти документы опубликованы в полном объеме на английском языке (Baizer M., Izmozik V. Dzerzhinskii's Attitude toward Zionism Jews in Eastern Europe // Spring. 1994. Vol. 25. P. 64-70) и частично – на русском (Измозик В., «Ф.Э. Дзержинский: ОГПУ и сионизм в середине 20-х годов») // Вестник Евр. ун-та. 1995. № 1 (8). С. 141-146).
Для более ясного и более осознанного понимания той военно-политической ситуации и сопутствующей ей агентурно-оперативной обстановки, которая очень стремительно превратила регион Ближнего Востока в один из ключевых факторов мировой политики, в том числе с точки зрения возникновения и становления новой арены острого противоборства и активного применения разведывательных усилий специальных служб самых различных стран, следует весьма основательно погрузиться в немаловажные детали распада огромного государства – Оттоманской Порты или Османской Империи.
Начало этому процессу было, как ни парадоксально, положено Крымской войной 1853-1856 годов между Российской империей, с одной стороны, и коалицией западных государств в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой. Боевые действия в ходе этой войны разворачивались не только в Крыму, на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, но также в низовьях Амура, на Камчатке и Курилах. Россия в то время была в основном занята решением многочисленных проблем присоединения Северного Кавказа к Российской империи и находилась в состоянии затяжного военного противостояния с Северо-Кавказским имаматом Шамиля.
По плану сторонника знаменитой идеи «вечных интересов Британии» премьер-министра лорда Пальмерстона именно имам Шамиль должен был стать той силой, которая помогла бы турецкой армии отторгнуть от России весь Кавказ целиком. Границы предполагалось отодвинуть за Терек и Кубань, планировалось вернуть Турции и Персии их прежние владения, включая Грузию, а государство горцев оставить под протекторатом Оттоманской Порты или, в крайнем случае, согласиться на его формальную независимость. В надежде склонить на свою сторону достаточно гордого и независимого имама ему был обещан титул короля Кавказского, в столицу имамата поселок Ведено были доставлены соответствующий фирман султана, знамена и ордена.