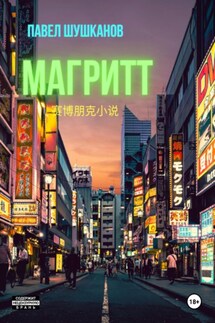Океан предков - страница 17
Она выползла из-под стола. Ее колени подкашивались. Запах изменился. К сладко-гнилостному клею и дыму приплелся новый – резкий, химический, как горелая резина и… мясо. Горелое мясо. Кристину скрутил спазм тошноты. Она упала на колени, ее вырвало на обледенелый пол. Но рвало не едой. Рвало желчью и слюной. Пустотой. Голодом. Голод пришел внезапно, как удар ножом под ребра. Не просто пустота в желудке. Жгучая, сводящая с ума боль. Спазм, выворачивающий кишки. Она сгребла в горсть снег, набившийся в щель у окна, сунула в рот. Лед обжег губы, но не утолил жажду. Жажда была отдельной пыткой. Сухость во рту, как наждак. Губы потрескались, кровоточили.
Плач ребенка за стеной усиливался. Надрывный, безутешный. Кристина поползла к двери. Она должна была помочь. Должна! Ее пальцы, окоченевшие, почти нечувствительные, нащупали ледяную ручку. Она дернула. Дверь не поддавалась. Замерзла? Или… не для нее?
Тогда она поползла к источнику звука – к стене, за которой плакал ребенок. Стена была холодной, шершавой под пальцами. Она прижалась к ней ухом.
Плач был совсем близко. Но… странный. Не детский плач. Что-то не так с интонацией. Слишком… ровное. Без пауз на всхлипы, на дыхание. Как запись. Зацикленная запись. Кристина прижалась сильнее. И сквозь плач она услышала… шепот. Множественный шепот. Тот самый шепот, который она ловила в сети. Тысячи, миллионы голосов, слитых в один неразличимый гул страдания и пустоты. Он шел из-за стены. Из того места, где плакал не-ребенок.
Ужас, чистый и первобытный, сковал ее сильнее холода. Она отползла от стены, прижалась спиной к ледяному подоконнику. Это была не симуляция реальности. Это была симуляция кошмара. Тщательно сконструированного. Персонализированного. Для нее. Журналистки, копавшейся в архивах войны. Для нее, чей отец, умерший, когда она была маленькой, рассказывал ей о блокаде отрывочными воспоминаниями своего детства. О голоде. О холоде. О страхе.
И Призрак знал. Он знал ее страх. Знание ее слабости. И использовал это.
На столе перед ней, где была пустая консервная банка, появился предмет. Не материализовался – просто стал там. Кусок хлеба. Маленький. Темный. Липкий. Блокадные 125 граммов. Он лежал на грязной, засаленной бумажке. Запах… настоящего, едва уловимый, сладковато-кислый запах хлеба, пробился сквозь вонь клея и гари. Слюна хлынула во рту, болезненным, жгучим потоком. Голод сжал желудок тисками. Ее рука сама потянулась к хлебу. Его! Съесть! Сейчас!
Но что-то остановило ее. Не разум. Инстинкт выживания, глубже страха и голода. Ловушка. Этот хлеб… он был не настоящий. Он был частью симуляции. Частью пытки. Частью… игры.
В углу комнаты, где раньше были лишь тени, материализовалась фигура. Не резко. Как будто она всегда там была, просто свет коптилки не падал на нее. Силуэт женщины. Очень худая. Завернутая в платок и пальто, из-под которого виднелись валенки. Она стояла спиной, глядя в забитое окно. Не двигалась.
Кристина замерла. Она знала эту фигуру. Не конкретно, но тип. Бабушка. Мать. Женщина, держащая на себе все. Женщина, отдающая последний кусок. Женщина, умирающая тихо, у печки-буржуйки. Образ из архива. Из книг. Из воспоминаний отца.
Женщина медленно обернулась. Лица не было видно в тени платка. Но Кристина почувствовала на себе взгляд. Не глазами. Весьма фигурой. Холодным, оценивающим вниманием. Как сканер.