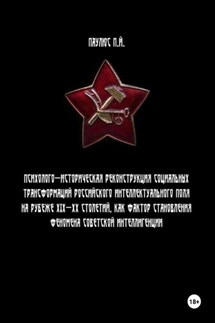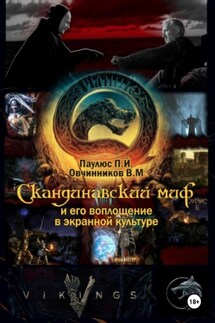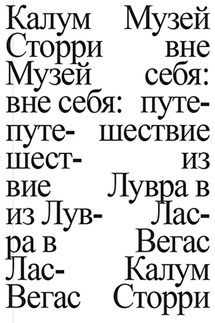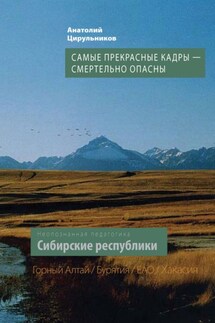Психолого-историческая реконструкция социальных трансформаций российского интеллектуального поля на рубеже XIX-XX столетий как фактор становления феномена советской интеллигенции. - страница 10
Зарождение русского символизма как формы декаданса, без сомнения, связано с деятельностью Брюсова, о котором уже упоминаемая ранее Гиппиус напишет следующее: «Декадентство, символизм…, принцип «чистого искусства», тяга к европеизму, наконец, – всё это было неизбежной революцией против многолетнего царствования наследников Белинского и Писарева. <…> Ломались старые рамки. Много при этом было и уродливого, и ненужного, – но и неожиданного. <…> Всё зависело от личных способностей и упорства. Вот этого и работоспособности, при громадной сметке, у Брюсова оказалось очень много. Он по праву занял видное место в новом литературном течении»66.
Эпатажные философические метафоры поэта во многом определяли умонастроение эпохи, как, например, балансирующие на грани смыслов и форм: «О, закрой свои бледные ноги!».
Стремление к поиску новых источников в условиях трансформаций политической жизни Российской империи влекло за собой видоизменение ранее монолитного движения «Не дождавшись спасения “из бездны”, оно стало чаять его “свыше” – и отсюда такой резкий, казалось бы переход… к религиозным исканиям, к “неохристианству”»67, в то же время как Дягилев, Бенуа и Брюсов не были столь радикальны и призывали к растворению в искусстве.
Их антиподом стали религиозные поиски Мережковского и его соратников, которые проявились как в художественной сфере (в трилогии «Христос и Антихрист» (1896–1905)), так и в создании «религиозно-философских собраний». Символисты при этом пытались наладить контакты с сектантами, организовать дискуссии с представителями русской православной церкви. Однако после октябрьского манифеста 1905 года, даровавшего свободу политической деятельности, старшее поколение символистов со своими идеями оказалось на обочине разнообразных политических течений, сформировавшихся в России. С другой стороны, начавшиеся расхождения между символистами имели личный характер.
Кризис символизма, всё больше нараставший после 1905 года, проявился, в том числе, и в определенной смене образов. Наступивший после революции 1905 г. период реакции в российском обществе снова породил у части интеллигенции желание уйти в некий вымышленный мир, но это уже была не тихая элегия ранних символистов, а более «пряная» тематика. Одну из тем обозначил новый журнал «Золотое руно», появившийся в Москве в конце 1905 года, в котором были заявлены претензии на «вечные ценности» «символичного» и «свободного» искусства68.
Довольно быстро обилие теоретических споров, изначально дававших импульс для развития движения, превратились в основной смысл его существования и попытки теоретического обоснования логики существования символизма, уже определившего оформление акмеизма, а затем и футуризма, превратившихся в замкнутую форму позиционирования, потерявшую возможность влиять на продолжавшуюся трансформацию массового сознания. Эти попытки институционализировать символизм напоминают «осень Средневековья», когда были окончательно прописаны правила поведения на рыцарских турнирах и манеры куртуазной любви, что тоже было началом их конца. Иванов-Разумник так писал о конце символизма: «Он заблудился и погиб в тупике вульгарного эстетства, омещанившейся мистики, духовного стилизаторства»