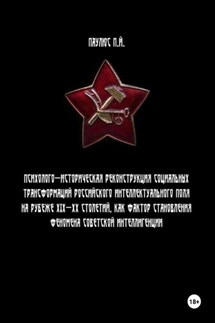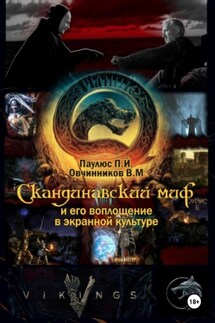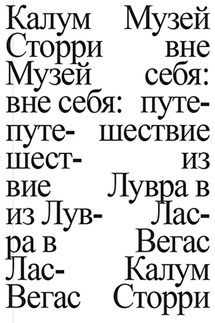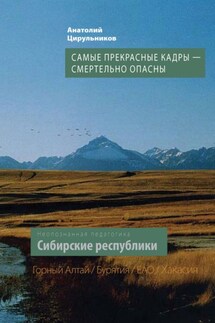Психолого-историческая реконструкция социальных трансформаций российского интеллектуального поля на рубеже XIX-XX столетий как фактор становления феномена советской интеллигенции. - страница 11
При этом те изменения, которые уже имели место, комплексно трактуемые нами как декаденсная ментальная революция, уже оформили особый психо-культурный ландшафт, основанный на поиске идентичности, идеализации будущего и абсолютизации стремления к духовному равенству в поиске истины. «В результате сложилась уникальная ситуация: нигде в мире, кроме России, элитарная философия Ницше не смогла завладеть умами столь широких слоев образованного и полуобразованного общества»70.
Интеграции творческого импульса с философскими дилеммами и религиозными постулатами, с одной стороны, породила особую знаковую систему, ставшую культурообразующим фактором, определившим мироощущение эпохи.
О. Мандельштам по этому поводу писал: «Декаденты были еще христианские художники. Музыка тления была для них музыкой воскресения. <…> Совсем другое дело сознательное разрушение формы. Болезненный супрематизм. Отрицание лица явлений. Самоубийство по расчету, любопытства ради»71. Декаданс и, в частности, символизм не был в России случайным явлением, в силу того что империя развивалась в контексте общеевропейской культуры: так же как во всей Европе, культура декаданса была порождением противоречивого времени переходной эпохи. Д. Мережковский писал: «… мы переживаем одно из самых тягостных и мрачных эпох умственной тревоги, блуждания, смятения, болезненно-страстных и все-таки бесплодных порывов к неизвестному будущему, если и не самые страшные, то, по крайней мере, самые томительные дни, какие когда-либо переживало человечество»72.
В целом российский символизм как особая форма мироощущения во многом является уникальным и самобытным явлением российской духовной жизни, определяющим трансформацию ментальности и массового сознания отечественной интеллигенции, интегрируя в себе революционную романтику, склонность к соборности и мистицизму, веру в богоизбранность русского народа, дополняемые идеализмом и стремлением к созданию «идеального мира» (причем лишь изначально в собственном сознании). «…Всё декадентство – область заглушенных полузвуков, утонченных полутонов, изощренных получувств, заостренных полумыслей. И эта декадентская полутонность («rien que la nuance!», по завету их французского учителя и предшественника), эта их заостренность и изощренность, всё это – характерное, общее, объединяющее свойство этих детей «fin de siecl’я». <…> это был разрыв с живой жизнью, которая не ограничивает себя областью полутеней и полузвуков. «Мне мило отвлеченное: им жизнь я создаю; я все уединенное, неявное люблю…» 73.
В первую очередь российские декаденты сделали попытку перейти от собственно символического искусства к оформлению философско-религиозной системы, интегрированной в социальный дискурс. «С изменением теории познания меняется отношение к искусству, – писал А. Белый. – Оно уже больше несамодовлеющая форма. <…> Оно становится путем к наиболее существенному познанию – познанию религиозному. Религия есть система последовательно развертываемых символов»74.
Забывалось только одно: «символизм», – как тремя четвертями века ранее «романтизм», – не только мировоззрение, но и мироощущение, мировосприятие, что «мистическое восприятие», лежащее в основе и романтизма и символизма, не берется, а дается. А кому не дано – те тщетно будут называть себя «символистами»: они будут ими лишь по внешней форме, а не по сущности духа»