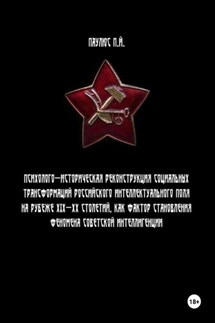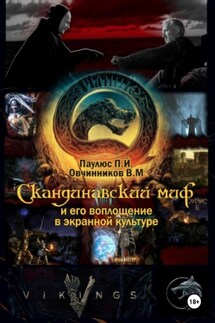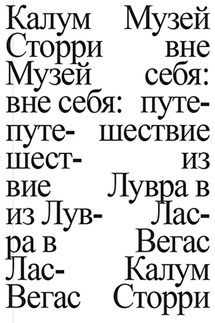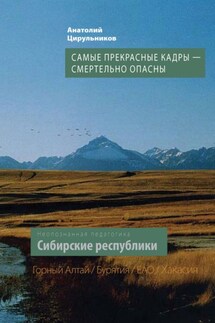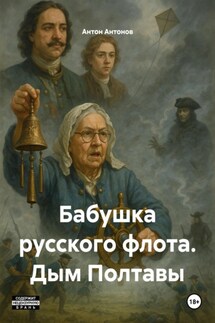Психолого-историческая реконструкция социальных трансформаций российского интеллектуального поля на рубеже XIX-XX столетий как фактор становления феномена советской интеллигенции. - страница 9
Культурное пространство, в рамках которого господствовал новый тип мироощущения, первоначально во многом тяготело к пангерманистской традиции (которую условно уместно именовать нордическим мифом), переплетаясь с идеями Шопенгауэра, Ницше и Вагнера в тот период, когда они еще не были столь неоднозначно интерпретированы А. Розенбергом. На российской почве оно укреплялось под влиянием идей Вл. Соловьева, основанных на поиске смыслов, постижении «великой миссии» и принятии всеединства, сокрытых в духовном поиске, дополняемых при этом принципами быстро ставших популярными «псевдовосточных мистических практик». Синтез всех представленных категорий, как своеобразный базис, и формирует духовное пространство русского декаданса, оказывавшего влияние на трансформацию ментальных основ российской идентичности. Стоит при этом заметить, что значительное влияние религиозной философии в первую очередь прослеживается на первом этапе становления и развития движения. Источником же мировоззрения символистов второго поколения была философия Ницше и в первую очередь его идея о двух противоположных началах в искусстве – аполлонического (дневного, объективного, рационального и гармоничного) и дионисийского (ночного, субъективного, иррационального и экстатического). «Младшие символисты стремились создать в жизни и в книгах некую грандиозную схему, которая позволяла бы выражать невыразимое»61.
В сознании российских интеллектуалов вероятно «декадентские “сенакли” и “тайные общины” под напором внешних событий должны были утратить свои замкнутый характер»62. Сообщества, подобные «Миру искусства», синтезируя языческое мироощущение с основами христианской морали, во многом влияли на «соединение вершин символизма как искусства с мистикой», трактуемые Вл. Соловьевым, как теургия (что дословно переводится как мистерия). «…Мудрость Ницше (таким образом) на более углубленной, сравнительно с трагизмом, стадии понимания можно определить как стремление к теургии»63.
События первой русской революции, протекавшей параллельно с конфликтом на Дальнем Востоке, стали начальным этапом того кризиса, в который погрузился символизм, и отправной точкой полномасштабной революции ментальности, сопряженной с попытками объединить «новое религиозное сознание» с революционными идеалами в формах «истинного символизма», далеко выходившего за пределы искусства. Интерес к политике Мережковского и Гиппиус сблизил их со сторонником «мистического анархизма» Г. Чулковым и бывшими марксистами Н. Бердяевым, Н. Лосским, С. Франком, С. Аскольдовым и С. Булгаковым; своеобразным «рупором» их общих идей стал журнал «Вопросы жизни».
Есть мнение, что первое поколение российских символистов испытало на себе влияние французской поэзии от Бодлера до символистов, а второе в большей степени находилось под влиянием немецких романтиков. Конечно, в обоих случаях влияние не было таким однозначным, но рациональное зерно в этом утверждении есть. Еще одним отличием между двумя поколениями символистов было отношение к философии Вл. Соловьева: если первое поколение его вежливо признавало, что второе поколение попыталось использовать его идеи.
Богоискательство в форме построения «нового мира» определило не только трансформацию сознания интеллектуальной элиты российского общества, но также и повлияло на дальнейшую активизацию общественно-политической жизни. Вместе с тем наряду с познанием будущего символисты «реконструировали» прошлое. Если Мережковского привлекал христианский мистицизм, то сторонники Иванова пропагандировали дионисийство в форме так называемых встреч в «башне». «Вячеслав Иванов пытался соединить митраистический культ «страдающего Бога», вечно умирающего и воскрешающегося языческого Диониса – по его понятиям, носящего одно из имен Христа, с русской православной соборностью, тоже понимаемую им своеобразно»